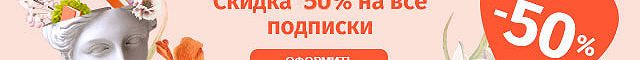
Глава II
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»
Кира смотрела на слова, намалеванные на голых стенах вокзала. Штукатурка осыпалась, оставляя черные пятна, отчего стены казались прокаженными. Но на них были наляпаны свежие надписи. Красные буквы гласили: «Да здравствует диктатура пролетариата! Кто не с нами, тот против нас!»
Буквы были намазаны красной краской через трафарет. Некоторые линии получились кривыми. Некоторые буквы высохли, пустив длинные, тонкие подтеки красных извилин вниз по стенам.
К стене под надписями прислонился парень. Мятая овчинная шапка была нахлобучена на его соломенные волосы, которые развихрялись над бесцветными глазами. Он бесцельно пялился в пространство перед собой и щелкал семечки, сплевывая шелуху через угол рта.
Между поездом и стеной бурлил водоворот хаки и красного, затащивший Киру в гущу солдатских шинелей, небритых лиц, красных платков, беззвучно открытых ртов, чьи крики проглатывались грохотом двигавшихся по платформе сапог, усиленным эхом, отдававшимся в высоком стальном перекрытии. На старой бочке с ржавыми кранами и с жестяной кружкой, прикрепленной цепочкой, красовалась надпись «Кипяток» и огромными буквами «Берегись холеры. Не пей сырой воды». Беспризорный пес с ребрами как у скелета и поджатым хвостом принюхивался к грязному полу в поисках пищи. Двое вооруженных солдат продирались через толпу, таща за собой крестьянку, которая отбивалась и всхлипывала:
– Товарищи! Я ничего не сделала! Братцы, куда вы меня тащите? Товарищи, дорогие. Господи, помоги мне, я ничего не сделала!
Где-то внизу, среди сапог, плевков, грязных измятых юбок кто-то монотонно завывал; это был не человеческий голос, но и не собачий вой: женщина ползала на коленях, пытаясь собрать рассыпавшийся мешок проса, всхлипывая, сгребая зернышки вперемешку с шелухой семечек и окурками.
Кира взглянула на высокие окна. Снаружи она услышала старый, знакомый с детства пронзительный звук трамвайного колокола. Она улыбнулась.
У двери с надписью «Комендант» стоял молоденький солдат-часовой. Его глаза были суровы и внушали страх, как темницы склепа, где лишь слабый огонек теплится под ледяными серыми сводами; безрассудная смелость застыла в чертах его загорелого лица, в руках, что сжимали винтовку, в шее, торчащей из расстегнутого воротника рубашки. Кире он понравился. Она взглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. Ей показалось, что он понял ее, – увидел, что для нее начинается новая, большая жизнь.
Солдат холодно и безразлично скользнул по Кире взглядом. Она повернулась и пошла к своим немного разочарованная, хотя она и сама не знала точно, чего ожидала.
Солдат успел заметить лишь то, что у незнакомой девушки в детской вязаной шапочке были странные глаза; и еще – что на ней был светлый костюм, но не было лифчика; последнее его нисколько не покоробило.
– Кира! – голос Галины Петровны прорвался сквозь гул вокзала. – Кира! Где ты? Где твои узлы? Что случилось с твоими узлами?
Кира вернулась к товарному вагону, где ее семья сражалась с багажом. Она совсем забыла, что должна нести три узла – носильщики были непозволительной роскошью. Галина Петровна отбивалась от них – здоровенных бездельников в истрепанных солдатских шинелях, которые хватали багаж без всяких просьб, нагло предлагая свои услуги.
И вот, отягченная тюками с последними остатками былого состояния, семья Аргуновых ступила на землю Петрограда.
Золотой серп и молот были прикреплены над выходом у вокзала. По сторонам висели два плаката. Один изображал громадного рабочего, чьи гигантские сапоги крушили игрушечные дворцы, в то время как его поднятая рука, с мышцами красными, словно кусок мяса, приветствовала столь же красное восходящее солнце. Над солнцем стояли слова: «Товарищи! Мы – строители Новой Жизни!»
Второй плакат знакомил с огромной белой вошью на черном фоне с красными буквами: «Вши распространяют болезни! Товарищи, все на борьбу с тифом!» Вонь карболки перебивала все остальные запахи. Здания вокзала были продезинфицированы от болезней, которые выплескивались на город с каждым поездом. Словно у больничного окна вонь висела в воздухе, как предупреждение и зловещее напоминание.
Двери в Петроград открывались на Знаменскую площадь. Знак на углу провозглашал ее новое имя: «Площадь Восстания». Огромный памятник Александру III смотрел на вокзал на фоне серого здания гостиницы, на фоне серого неба. Капли падали одна за другой через долгие промежутки, медленно, монотонно, как будто небо протекало, как будто оно тоже нуждалось в ремонте, как и прогнившие деревянные настилы, на которых капли вспыхивали серебряными искорками в темных лужах. Это был ненастоящий дождь.
Закрытые крыши раскачивающихся и вздрагивающих двухколесных дрожек выглядели так, словно были сделаны из лакированной кожи; колеса чавкали в грязи словно голодные животные. Старые здания взирали на площадь мертвыми глазами закрытых магазинов, из чьих пыльных витрин паутина и скомканные газеты не выметались уже пять лет. Но один из магазинов нацепил картонную вывеску «Продовольственный центр». Очередь переминалась с ноги на ногу у двери, загибаясь за угол: длинная цепь ног в обуви, разбухшей от дождей, красных замерзших рук, опущенных голов, поднятых воротников, за которые свободно падали и скатывались вниз по спинам дождевые капли.
– Ну, – произнес Александр Дмитриевич, – вот мы и вернулись.
– Разве это не прекрасно! – сказала Кира.
– Грязно, как всегда, – сказала Лидия.
– Придется взять извозчика. Хоть и дорого! – сказала Галина Петровна.
Они набились в одни дрожки; Кира устроилась поверх узлов. Лошадь рванула вперед, окатив грязью ноги Киры, и повернула на Невский проспект. Длинная, широкая улица лежала перед ними, такая прямая, словно позвоночник города. Вдали тонкий золотой шпиль Адмиралтейства слабо блестел в серой дымке, словно длинная рука, взметнувшаяся в торжественном приветствии.
Петроград пережил пять лет революции. Первые четыре года перекрыли каждую его артерию, ликвидировали все магазины; национализация размазала пыль и опутала паутиной зеркальные витрины; последний год вернул мыло, метлы, свежую краску и привел новых владельцев, потому что новая экономическая политика провозгласила «временный компромисс» и позволила вновь робко открыться маленьким частным магазинчикам.
После долгого сна Невский медленно открывал глаза. Они долго привыкали к свету и наконец в нетерпении распахнулись и теперь таращились расширенные, испуганные, недоверчивые. Новые вывески были картонными полосками с яркими неровными буквами. Старые вывески были мраморными некрологами людям, исчезнувшим давным-давно. Золотые буквы напоминали о забытых именах на витринах новых владельцев, а пулевые отверстия и трещины все еще украшали стекло. Были магазины без вывесок и вывески без магазинов. Но между витринами и над закрытыми дверями, над кирпичами, досками и треснувшей штукатуркой город принарядился в мантию из ярких красок, похожую на лоскутное одеяло: тут и там висели плакаты с красными рубахами, и желтой пшеницей, и багровыми знаменами, и синими колесами, и красными платками, и серыми тракторами, и рыжими трубами; они вымокли, стали полупрозрачными под дождем, под ними проступили слои старых плакатов. Никому не подконтрольные, никем не сдерживаемые, эти плакаты размножались словно яркая городская плесень.
На углу старушка скромно держала в руках поднос с домашними пирожками, но ноги спешно проходили мимо, не останавливаясь; кто-то выкрикивал: «"Правда"!.. "Красная газета"! Последние новости, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Сахарин, граждане!», а кто-то выкрикивал: «Кремни для зажигалок, дешево, граждане!» Внизу была лишь грязь да шелуха семечек; наверху, склоняясь над улицей из каждого дома, реяли размытые, когда-то красные знамена, истекавшие мелкими розовыми каплями.
– Я надеюсь, – сказала Галина Петровна, – что сестра Маруся будет рада видеть нас.
– Я сгораю от любопытства, – сказала Лидия, – интересно, как Дунаевы пережили эти годы?
– А мне не терпится взглянуть, что осталось от их состояния, если, конечно, хоть что-нибудь осталось. Бедная Маруся. Я сомневаюсь, что у них сохранилось больше, чем у нас.
– Даже если и сохранилось, – вздохнул Александр Дмитриевич, – какое это имеет значение сейчас, Галина?
– Никакого, – произнесла Галина Петровна, – но я надеюсь.
– Как бы то ни было, мы пока еще не бедные родственники, – гордо сказала Лидия и немного вздернула юбку, чтобы продемонстрировать прохожему свои оливково-зеленые высокие сапожки на шнуровке.
Кира не слушала их, она рассматривала улицы. Извозчик остановился у здания, где четыре года назад они в последний раз виделись с Дунаевыми в их великолепной квартире. В одной половине внушительной входной двери сохранилось огромное квадратное зеркальное стекло; другая половина была наспех забита некрашеными досками.
Раньше, как припоминала Галина Петровна, в просторном вестибюле лежал мягкий ковер, и горел камин ручной работы. Ковер исчез; камин все еще стоял, но на белых животах его мраморных купидонов были нацарапаны надписи, по зеркалу над камином расползлась длинная, из угла в угол, трещина.
Заспанный дворник высунул голову из своей каморки под лестницей и с безразличием убрал ее обратно. Втащив узлы по лестнице, они остановились у двери Дунаевых; черная клеенка была содрана, и серые клочки грязной ваты окаймляли дверь.
– Хотела бы я знать, – прошептала Лидия, – остался ли у них до сих пор их величественный дворецкий.
Галина Петровна нажала на звонок.
Внутри послышались шаркающие шаги. Повернулся ключ. Рука осторожно приоткрыла дверь, защищенную цепочкой. Через узкую щель они увидели лицо старухи, закрытое свисающими космами, живот под грязным полотенцем, повязанным как передник, и одну ногу в мужском тапке. Старуха глядела на них, враждебно изучая, не проявляя намерения открыть дверь шире.
– Здесь ли Мария Петровна? – спросила Галина Петровна слегка неестественным голосом.
– А что надо? – прошамкал беззубый рот.
– Я ее сестра, Галина Петровна Аргунова.
Старуха не ответила, она повернулась и прокричала в комнату:
– Мария Петровна, здесь толпа, которая говорит, что они ваша сестра!
В ответ из глубины дома раздался кашель, послышались медленные шаги, затем бледное лицо выглянуло из-за плеча старухи и рот раскрылся в беззвучном крике:
– Господи боже мой!
Дверь распахнулась настежь. Две тонкие руки обняли Галину Петровну, прижимая ее к трясущейся груди.
– Галина! Дорогая! Ты ли это?
– Маруся! – губы Галины Петровны утонули в пудре, безуспешно скрывавшей отвисший подбородок, а нос – в тонких, сухих волосах, надушенных духами, пахнувшими ванилью.
Мария Петровна всегда была красой семьи, нежная и избалованная драгоценность, которую муж зимой носил на руках по снегу до самой кареты. Сейчас она выглядела старше Галины Петровны. Ее кожа была цвета грязного белья, ее губы были недостаточно красными, зато слишком красными были белки ее глаз.
Дверь за ней распахнулась, и что-то ворвалось в прихожую, что-то высокое, стройное, с гривой волос и глазами, как автомобильные фары: Галина Петровна узнала Ирину, свою племянницу, девушку с двадцативосьмилетними глазами и смехом восьмилетней девочки. За ней Ася, ее младшая сестра, медленно прокралась и встала в дверном проходе, угрюмо разглядывая приезжих; ей было восемь лет, ее давно не подстригали, а в волосах не хватало ленты.
Галина Петровна поцеловала девочек; затем она поднялась на цыпочки и поцеловала в подбородок своего шурина, Василия Ивановича. Она старалась не смотреть на него. Его густые волосы поседели; высокая, властная фигура сгорбилась. Даже увидев скрюченный шпиль Адмиралтейства, Галина Петровна не почувствовала бы такой горечи. Василий Иванович сказал:
– Неужели это мой дружочек Кира?
Вопрос был теплее, чем поцелуй.
Его впавшие глаза выглядели как камин, в котором последние искрящиеся угольки безнадежно борются с мертвой сажей. Он добавил:
– Извините, Виктора нет дома, он в институте. Мальчик так много работает.
Имя его сына подействовало словно сильное дыхание, которое на мгновение оживило угольки.
Перед революцией Василий Иванович Дунаев был процветающим меховщиком. Он начинал охотником в дикой сибирской глуши, имея лишь ружье, пару валенок и руки, которые могли поднять быка. От медвежьих зубов у него остался шрам на бедре. Однажды его нашли погребенным под снегом; он пролежал там несколько дней; но руки его сжимали такого великолепного песца, какого нашедшие его напуганные сибирские крестьяне в жизни не видели. Его родственники ничего не слышали о нем в течение десяти лет. Когда он вернулся в Санкт-Петербург, он открыл магазин, даже дверные ручки которого были бы не по карману его родственникам, и купил серебряные подковы для своей тройки, которая гарцевала с каретой по Невскому.
Его руками добывались горностаи, края шлейфов из которых скользили по мраморным лестницам в царских дворцах; соболя, укутывавшие многие плечи, белые, как мрамор. Каждый волосок на шкурках, прошедших через его руки, был оплачен силой его мышц и бесконечными часами морозных сибирских ночей.
В шестьдесят лет его позвоночник был так же прям, как его ружье; его дух – так же прям, как его позвоночник.
Когда Галина Петровна поднесла к губам дымящуюся ложку пшенной каши в столовой своей сестры, она украдкой взглянула на Василия Ивановича. Она боялась всмотреться в него открыто, но вновь замечала сгорбленную спину и думала, что-то стало с его духом.
Она заметила перемены в гостиной. Ложечка в ее руках была не из столового серебра с монограммой, которую она хорошо помнила; она была из тяжелой жести, придававшей каше металлический привкус. Она помнила хрустальные и серебряные вазы для фруктов на буфете; сейчас его украшал одинокий глиняный кувшин.
Безобразные ржавые гвозди на стенах обозначали те места, где раньше висели старинные картины.
Напротив за столом Мария Петровна тараторила с нервной, прерывистой спешкой – странная карикатура на те капризные манеры, которые до революции завораживали любую гостиную, в которую она входила. Она произносила незнакомые Галине Петровне слова. Эти слова были словно вехи всех лет разлуки и символ того, что случилось за эти годы.
– Продовольственные карточки – они только для совслужащих. И для студентов. Мы получаем только две продовольственные карточки. Лишь две карточки на семью – это очень нелегко. Студенческие карточки Виктора в институте и Ирины в Академии художеств. Но я нигде не служу, поэтому и не получаю карточку, а Василий…
Она прервалась на секунду, словно ее слова забежали слишком далеко, украдкой посмотрела на мужа – взгляд был полон раболепия. Василий Иванович уставился в тарелку и ничего не сказал.
Мария Петровна красноречиво взмахнула руками:
О проекте
О подписке