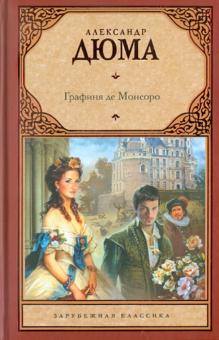- Главная
- Все подборки
- Полка писателя: Марта Кетро
Полка писателя: Марта Кетро
8
4.38
На этой неделе героиней нашей рубрики стала писательница, «легенда русского Интернета» Марта Кетро.
Ее книга о постапокалиптической реальности «Чтобы сказать ему» номинирована на премию «Национальный бестселлер». А сейчас Марта дописывает свой 24-й по счету роман онлайн – новые главы выходят прямо на сайте автора и доступны по подписке. Как отмечает автор, в режиме карантина, когда книгоиздательская деятельность приостановилась, читатели как никогда нуждаются в развлечениях – возможно, ее книге удастся вас обаять, рассмешить и увлечь.
«Книги, которые на меня влияли с самого детства, были совсем не детские. Мне, пятилетней, папа ежедневно читал перед сном то, что любил сам. Поэтому литература началась для меня с трех книг: «Петр Первый» Алексея Толстого, «Поднятая целина» Михаила Шолохова и «Графиня де Монсоро» Александра Дюма», – так начала свой рассказ о любимых произведениях и авторах Марта.
Это произведение невероятной мощи и размера, поэтому я до сих пор в глубине души уверена, что настоящая книжка должна быть непременно толстой и фундаментальной. Кроме этого заблуждения, я обязана Алексею Толстому манерой описывать переживание через действие. Он говорит о чувствах героев, показывая их движения – они вскакивают, мечутся, сжимают и комкают платки, закусывают губы и нехорошо смотрят. От этого текст получается динамичным, хотя и несколько нервным.
Эта книга дала мне первое представление о юморе. Дед Щукарь – великий персонаж, а некоторые сцены, вроде «нехорошего утра Якова Лукича», смешили меня до слез. Я очень рада, что книжка попалась мне в раннем возрасте, когда я смогла благополучно не заметить все тяжелое и страшное, что в ней было.
Другой мой учитель юмора – шут Шико из «Графини де Монсоро», мастер острых реплик, едкой иронии и метких определений. Не уверена, что научилась писать так же, но у меня хотя бы есть образец.
«Трое в лодке, не считая собаки», Джером Джером и





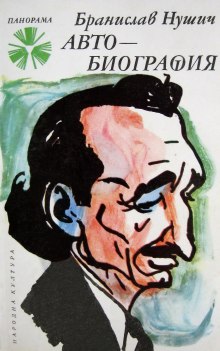
Ее книга о постапокалиптической реальности «Чтобы сказать ему» номинирована на премию «Национальный бестселлер». А сейчас Марта дописывает свой 24-й по счету роман онлайн – новые главы выходят прямо на сайте автора и доступны по подписке. Как отмечает автор, в режиме карантина, когда книгоиздательская деятельность приостановилась, читатели как никогда нуждаются в развлечениях – возможно, ее книге удастся вас обаять, рассмешить и увлечь.
«Книги, которые на меня влияли с самого детства, были совсем не детские. Мне, пятилетней, папа ежедневно читал перед сном то, что любил сам. Поэтому литература началась для меня с трех книг: «Петр Первый» Алексея Толстого, «Поднятая целина» Михаила Шолохова и «Графиня де Монсоро» Александра Дюма», – так начала свой рассказ о любимых произведениях и авторах Марта.
«Петр Первый», Алексей Толстой
«Поднятая целина», Михаил Шолохов
«Графиня де Монсоро», Александр Дюма
«Трое в лодке, не считая собаки», Джером Джером и
«Посмертные записки Пиквикского клуба», Чарльз Диккенс


Два примера английского юмора. Их герои шутят иначе, длинными фразами, улыбаясь лишь уголком губ или вовсе сохраняя невозмутимость, иронией пропитан весь текст, а не только отдельные забавные моменты. Это было важное знание: автор насмешливо смотрит и на положительных, и на отрицательных героев, извлекая комизм из любой ситуации.
«Красное и черное», Стендаль
В двенадцать я увидела Николая Еременко в фильме «Красное и черное» и прочитала роман Стендаля. Немедленно влюбилась и в Жюльена, и в его идеи о гордыне, долге, лицемерии и чести. Не показывай свои чувства, владей собой и сохраняй лицо – вот чему учил прелестный французский Иисус (почему-то в моей голове сын плотника, религия и казнь сложились именно в этот образ).
Как писателю Стендаль дал мне чудесную идею авторской безответственности: «Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. Идет человек, взвалив на себя это зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности! Его зеркало отражает грязь, а вы обвиняете зеркало! Обвиняйте уж скорее большую дорогу с ее лужами, а еще того лучше – дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь».
«Таис Афинская», Иван Ефремов
К счастью, мое чтение родители не контролировали, поэтому в том же возрасте я прочитала «Таис Афинскую» Ефремова. Это книжка про секс, женскую красоту и мою любимую Древнюю Грецию.
Кстати, в перечисленных книгах для меня были необыкновенно важны примечания – справочный материал, находящийся в конце и поясняющий имена, цитаты, фразы на иностранных языках, непонятные шутки и отсылки к другим текстам. Эти сноски давали ничуть не меньше пищи для размышления, чем сами истории, и научили меня тому, что у книги всегда должен быть второй-третий-пятый план. В моих собственных книгах такие отсылки всегда подразумеваются, и я очень радуюсь, когда читатели их замечают.
«Театр», Сомерсет Моэм

Чуть позже в моей жизни появился Сомерсет Моэм: «Театр», одноименный фильм и великая Джулия Ламберт. Я многократно перечитывала все названные книги, но «Театр» в этом смысле чемпион. Я возвращаюсь к нему почти каждый год. Моэм невероятно точен в описании женской души, очень остроумен и поддерживает идею о сокрытии своих подлинных мыслей и переживаний, только называет это не лицемерием, а актерством или хорошим воспитанием.
«Лолита», «Дар», «Весна в Фиальте», Владимир Набоков


А потом я прочитала Набокова... Для меня мировая литература состоит из округлых линий, прочерченных одним движением кисти. Начинается с легкого неуверенного мазка, потом – обретает плотность и тяжесть, а заканчивается опять легкой игривой завитушкой, только с виду похожей на первую.
Вот, скажем, Тургенев – автор нежнейшей акварельной прозы о любви, к которой литераторы-современники относились не слишком серьезно, а читатели обожали. А вот линия уплотнилась и перешла в «большую литературу» – от бунинской прозы элегантной глубины до бездонного Набокова. А потом линия истончается (но не вырождается) в игривый хвостик, и на кончике может быть кто угодно, какая-нибудь женщина с легким изящным текстом, которая всё предыдущее читала. Например, Анна Ривелотэ или Франсуаза Саган – почему бы не завершить русскую линию в Европе.
Но все-таки именно Набоков олицетворяет для меня подлинную литературу. Его «Лолита», «Дар» и «Весна в Фиальте» – это какой-то идеальный небесный текст, совершенная Книга, которую выбирают, когда нужно оставить только одну.
«Автобиография», Бранислав Нушич
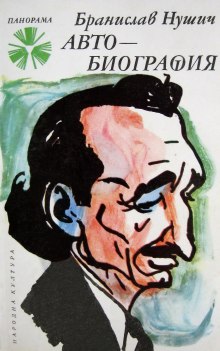
Чистую радость доставлял и Бранислав Нушич своей «Автобиографией». От него я узнала, что самоирония – величайший писательский инструмент. Грош цена автору, который смеется над другими и с величайшей серьезностью относится к себе самому. Обычно это означает, что подлинного чувства юмора он лишен.
«Москва – Петушки», Венедикт Ерофеев
А завершилось мое детское чтение Ерофеевым. Если Набоков воплотил идею книги вообще, то «Москва – Петушки» – это идеальная книга, которую хотела бы написать я. В ней прекрасно все: и размер, и ритм, и сюжет, и язык, и образ автора, и его гибель.
Другие материалы по теме «Полка писателя»
О проекте
О подписке