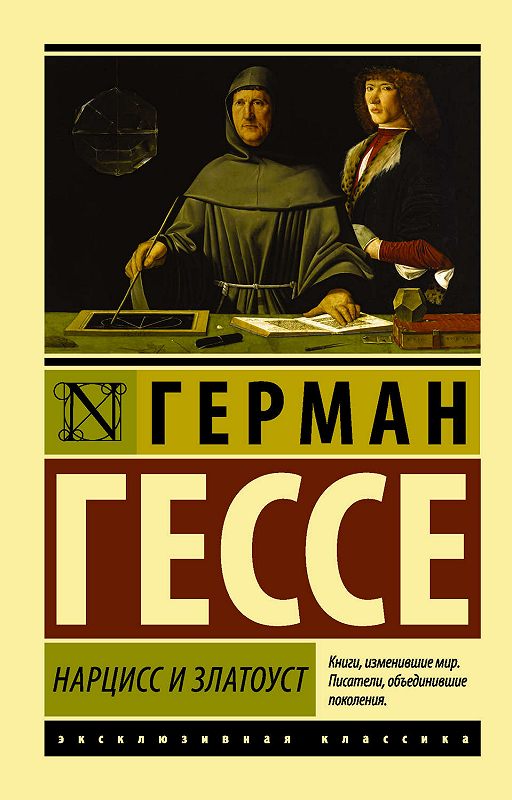- Главная
- Все подборки
- Полка писателя: Валерия Пустовая
Полка писателя: Валерия Пустовая
5
4.61
Валерия Пустовая – литературный критик, кандидат филологических наук, лауреат премии «Дебют» и Новой Пушкинской премии. Более десяти лет проработала редактором литературного журнала «Октябрь», вела творческие семинары на факультете журналистики МГУ и в РГГУ, а также мастер-классы для молодых писателей. Автор книг критических статей и эссе «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» (2012) и «Великая легкость. Очерки культурного движения» (2015). Дебютной работой Пустовой стало эссе «Манифест новой жизни», в котором она сопоставила идеи романа «Кысь» Татьяны Толстой с повестью «Ура!» молодого писателя Сергея Шаргунова и «Закатом Европы» немецкого историософа Освальда Шпенглера, а самый свежий ее обзор посвящен романам-сказкам о путешествии детей в царство смерти. В 2019-м Пустовая выпустила свою первую книгу прозы «Ода радости» – автофикшн об одновременном проживании утраты и материнства, документальный роман о том, как жизнь воспитывает нас, пока мы воспитываем своих детей.
Для рубрики MyBook «Полка писателя» Валерия собрала свои любимые книги и рассказала, почему выбрала именно их.
Роман взросления о женщине, прожившей до смерти подростком, несмотря на то что родила семь, что ли, – все время сбиваюсь со счета – сыновей. Средневековый шедевр нобелевской лауреатки Сигрид Унсет, который ткется и раскатывается во все стороны. Начинается как страшная легенда. Набирает силу за счет роковой любви. Показывает изнанку рыцарского романа. Расцветает семейной сагой, а обрывается экзистенциальной драмой, в послевкусии оставляя молитву. Кристин, дочь Лавранса, через весь роман рвется к возлюбленному Эрленду, а приходит к Богу, которого, как и собственного отца, проослушничала, прообманывала – предавала всю жизнь.
Для меня это роман о соперничестве страсти и любви. Безусловной любви – которую сегодня проповедуют родителям психологи. Лавранс, отец Кристин, бывший рыцарь, тихий землевладелец, опозоренный дочерью и женой, осиян нимбом отцовского и супружеского смирения.
Одна из великих сцен романа – исповедь на сене. Жена добивает оскорбленного дочерью Лавранса – откровением о своей юности. «Всю жизнь потом, Лавранс мой, мне казалось, я мелю тебе землю вместо хлеба, как в аду неверные жены своим мужьям», – говорит она. И он отвечает: «Но, моя Рагнфрид, земля должна быть перемолота, чтобы хлеб взошел».
Кристин выросла любимой дочерью – и до последнего действует как ребенок, уверенный, что его свобода не перевесит родительской любви. Но сама она годы и всех близких растеряет, пока поймет, что любить надо, как ее отец, разомкнув объятия.
Прочитан еще до университета в вырезках из журнала «Литературная учеба». На всю жизнь запомнила, как вывод о детском чтении, до чего мне тогда было все равно, кто его написал. Позже, в университете, мир Гессе развернулся шире, но каждый новый для меня роман оказывался проекцией того, любимого. В результате я написала по нему курсовую, которую преподаватель ругала за объем – и с которой я поздравляла себя, потому что, казалось, наконец я поняла в любимом романе все до мелочи.
Иллюзия цельного, абсолютного понимания – то, на что Гессе вообще подсаживает. И Нарцисс с Златоустом пленяют всесторонним объяснением жизни, в которой есть пути ученого – и художника, пути духа – и плоти, путь страсти, самоотдачи – и сбережение себя для чего-то высшего. История любви-дружбы двоих людей, которые ни в чем не были сходны, но именно этим друг друга притягивали, на фоне ослепительного Средневековья, тоже и рыцарственного, и чумного, и страстного, и устремленно духовного.
Люблю эту книгу за то, что в ней нельзя сделать правильный выбор: он не предполагается. Благодаря двум линиям жизни в романе для нас воссоздана золотая цельность. Потому что каждый из нас немного Нарцисс и немного Златоуст.
Почему-то в доме не оказалось трагедий – и в детстве я постигала Шекспира как беспечного, на грани скромности, шутника. Я увлекалась образами шутов, переодетых мальчиками девушек, бравурных холостяков, жеманных правильниц и «бедных чернушек», как говорит о себе смешливая Беатриче, наиболее родная мне из героинь Шекспира.
Смех вне времени и возраста, смех без зла и морали – оказывается, это тоже добрая, созидательная сила. Шекспиру смешно как демиургу, которого прет, распирает от перебранок, переодеваний, ошибок страсти, наветов и шалостей. Восхитительно его равнодушие к юмору как искусству – его герои озабочены тем, чтобы прослыть острословами, а он – нет. И оседает в памяти грубостями, глупостями: «штаны без буфов ничего не стоят, вы хоть иголку спрятать в буф могли бы», «вас, женщин, тяжесть тоже не страшит», «как, мой язык в твоем хвосте! Ну нет, я дворянин!» – цитирую, не сверяясь. Тут сама стихия смеха: несдержанное изобилие, вольная простота.
В школе, когда меня настигла в младших классах волна буллинга, я не знала этого слова, зато точно опознала свою модель поведения: перед девочками понарядней и поважней я чувствовала себя шекспировским шутом и гордилась престижной ролью.
Одна из книг, к которым чувствую сердечную, интимную благодарность – как к лучшей подруге, помогшей пережить тяжелые времена. Книга, которая мне помимо психологов и тренингов объяснила, что со мной не так в отношениях с мужчинами. В ту пору, когда я была «в активном», но пустом поиске, этот роман помог мне увидеть главную ошибку девушки в начале отношений.
Роман запустил процесс переориентации с модели Марианны на модель Элинор. Нет, я не стала сдержанной и долготерпеливой в любви, как Элинор. Но я поняла, что мельтешение еще не чувства, а взрыв эмоций – еще не боль. Я перестала ценить показное чувствование – даже когда оно кажется искренним. Перестала, короче говоря, верить крику.
Переворот, имевший и жизненные, и литературные, как мне кажется, следствия.
 В отличие от Шекспира, это такое «животики надорвать для эльфов». Юмористические понты. Смех настолько не универсальный, что увлечение им можно засчитать за хобби.
Когда мы с критиками – тогда еще только критиками, это потом у каждой вышло по первой книге прозы или стихов – Алисой Ганиевой и Еленой Погорелой основали веселую группу «ПоПуГан», мне очень пригодились знания о законах пародии, вынесенные из спецкурса профессора, критика и прозаика Владимира Новикова на журфаке МГУ и из этой вот антологии.
Законы эти просты. А главный из них совпадает с законом критики: нужно уметь прислушаться к тому, как и что говорит другой.
В отличие от Шекспира, это такое «животики надорвать для эльфов». Юмористические понты. Смех настолько не универсальный, что увлечение им можно засчитать за хобби.
Когда мы с критиками – тогда еще только критиками, это потом у каждой вышло по первой книге прозы или стихов – Алисой Ганиевой и Еленой Погорелой основали веселую группу «ПоПуГан», мне очень пригодились знания о законах пародии, вынесенные из спецкурса профессора, критика и прозаика Владимира Новикова на журфаке МГУ и из этой вот антологии.
Законы эти просты. А главный из них совпадает с законом критики: нужно уметь прислушаться к тому, как и что говорит другой.
 Многотомное наследие философа и композитора Владимира Мартынова состоит из книг тонких, гибких и легких на измену жанра: из трактата – в исповедь, из семейной хроники – в сатиру, из игры ума – в молчание.
И хотя я прочитала и полюбила несколько его книг, а эта – не самая поэтичная (в сравнении, например, с тем же циклом «Автоархеологий» или «Временем Алисы»), я все же вспоминаю именно ее – как самую первую и болезненную для меня.
Книга меня в самом деле ранила. Я не смогла от нее, смеясь, отмахнуться. Потому что она подтвердила мое глубинное чувство бессмысленности экстенсивного литературствования.
Именно благодаря Мартынову, вовсе не критику и не филологу, я научилась чувствовать живое и мертвое в тексте.
Отличать литературу от литературщины. Ну или, по крайней мере, – обострить к этому чутье. Он – об этом: о том, как мертвому дать умереть, чтобы живому до нас достучаться.
Литературный памятник первым постсоветским христианам, переживший свое время. Маленькая книжечка, которую и правда удобно, как сказано в названии одной из глав, развернуть в очереди на исповедь. Взаимообращение притчи в анекдот, абсурда – в свет истины.
Впоследствии я узнаю иных героев книги в широко развернувшихся «Несвятых святых» отца Тихона. И почувствую разницу между документом и преданием. Книга Кучерской творит из частных воспоминаний миф, и это причащает ее героев вечности: она не о соседях по очереди, а о верующих во все времена, чей пример нам особенно ценен не подвигами, а заблуждениями и страстями. Потому что это значит, что к Богу всяк идет по-своему, но одной дорогой – обычной человеческой жизнью.
Цикл о ведьме-подростке входит в «Плоский мир» Пратчетта, являя позднее его мастеровитое состарившееся совершенство. После книг о Тиффани сверкающие постмодернистской обнаженкой истории о старших ведьмах кажутся спектаклем в условных декорациях. Хотя созданные автором женские образы так достоверны, что переживают границы цикла и вторгаются во владения Тиффани – девочки с меловых холмов, пастушки мужикастых фей, королевы сыров, – сама философия ведьмовства вполне созревает только теперь. И становится философией и женственности, и жизни.
Фэнтези-цикл, который помогает полюбить жизнь без волшебства. Ее некрасоту, немощь, придурь, труд ради хлеба и грубые сельские ведьмины башмаки.
Жанровое размежевание: я поклонница фэнтези, а мой муж – твердой научной фантастики. Благодаря ему я прочла трилогию «Задача трех тел» Лю Цысиня – и начинала читать «Марсианскую трилогию» Робинсона. А вот я единственный, кажется, раз смогла убедить его прочитать «Погребенного великана» Исигуро – и то ему как-то вяло показалось, а разговор о книге он посчитал исчерпанным, когда сказал, что это, мол, типичное дарк-фэнтези.
Я поклонница Роулинг, Ле Гуин, Толкина, Пратчетта, Геймана, Мартина, Дяченко, Григоренко, наконец. Мага истории Дюма я бы причислила к этому ряду, ну да ладно, сдержусь.
Ну а здесь я решила вспомнить старого, как мир, и доблестного, как мышь (никто из Нарнии не напишет – лев) нарнийца Льюиса. Помню, как я бесконечно перечитывала эти семь книг в детстве, еще в раздельных изданиях в мягких обложках, которые моей маме рекомендовал на работе коллега – тогда книга еще не была общеизвестной. Потом переслушивала уже взрослой, в начитке с музыкальной отбивкой, где в одной из глав диктор громко незапланированно чихает – всегда неожиданно, сколько бы я ни проигрывала файл.
Хроника, где столько ярких героев, острых выборов, детских плюшевых шуток, что и не поверишь в ее начало с сотворения мира и исход в катастрофу, крушение, смерть и вознесение к жизни вечной, Небесной Нарнии.
Так не умеет даже Пелевин, чьи герои раз за разом все-таки воссоздают наш разодранный, как завеса, мир.
Многотомное наследие философа и композитора Владимира Мартынова состоит из книг тонких, гибких и легких на измену жанра: из трактата – в исповедь, из семейной хроники – в сатиру, из игры ума – в молчание.
И хотя я прочитала и полюбила несколько его книг, а эта – не самая поэтичная (в сравнении, например, с тем же циклом «Автоархеологий» или «Временем Алисы»), я все же вспоминаю именно ее – как самую первую и болезненную для меня.
Книга меня в самом деле ранила. Я не смогла от нее, смеясь, отмахнуться. Потому что она подтвердила мое глубинное чувство бессмысленности экстенсивного литературствования.
Именно благодаря Мартынову, вовсе не критику и не филологу, я научилась чувствовать живое и мертвое в тексте.
Отличать литературу от литературщины. Ну или, по крайней мере, – обострить к этому чутье. Он – об этом: о том, как мертвому дать умереть, чтобы живому до нас достучаться.
Литературный памятник первым постсоветским христианам, переживший свое время. Маленькая книжечка, которую и правда удобно, как сказано в названии одной из глав, развернуть в очереди на исповедь. Взаимообращение притчи в анекдот, абсурда – в свет истины.
Впоследствии я узнаю иных героев книги в широко развернувшихся «Несвятых святых» отца Тихона. И почувствую разницу между документом и преданием. Книга Кучерской творит из частных воспоминаний миф, и это причащает ее героев вечности: она не о соседях по очереди, а о верующих во все времена, чей пример нам особенно ценен не подвигами, а заблуждениями и страстями. Потому что это значит, что к Богу всяк идет по-своему, но одной дорогой – обычной человеческой жизнью.
Цикл о ведьме-подростке входит в «Плоский мир» Пратчетта, являя позднее его мастеровитое состарившееся совершенство. После книг о Тиффани сверкающие постмодернистской обнаженкой истории о старших ведьмах кажутся спектаклем в условных декорациях. Хотя созданные автором женские образы так достоверны, что переживают границы цикла и вторгаются во владения Тиффани – девочки с меловых холмов, пастушки мужикастых фей, королевы сыров, – сама философия ведьмовства вполне созревает только теперь. И становится философией и женственности, и жизни.
Фэнтези-цикл, который помогает полюбить жизнь без волшебства. Ее некрасоту, немощь, придурь, труд ради хлеба и грубые сельские ведьмины башмаки.
Жанровое размежевание: я поклонница фэнтези, а мой муж – твердой научной фантастики. Благодаря ему я прочла трилогию «Задача трех тел» Лю Цысиня – и начинала читать «Марсианскую трилогию» Робинсона. А вот я единственный, кажется, раз смогла убедить его прочитать «Погребенного великана» Исигуро – и то ему как-то вяло показалось, а разговор о книге он посчитал исчерпанным, когда сказал, что это, мол, типичное дарк-фэнтези.
Я поклонница Роулинг, Ле Гуин, Толкина, Пратчетта, Геймана, Мартина, Дяченко, Григоренко, наконец. Мага истории Дюма я бы причислила к этому ряду, ну да ладно, сдержусь.
Ну а здесь я решила вспомнить старого, как мир, и доблестного, как мышь (никто из Нарнии не напишет – лев) нарнийца Льюиса. Помню, как я бесконечно перечитывала эти семь книг в детстве, еще в раздельных изданиях в мягких обложках, которые моей маме рекомендовал на работе коллега – тогда книга еще не была общеизвестной. Потом переслушивала уже взрослой, в начитке с музыкальной отбивкой, где в одной из глав диктор громко незапланированно чихает – всегда неожиданно, сколько бы я ни проигрывала файл.
Хроника, где столько ярких героев, острых выборов, детских плюшевых шуток, что и не поверишь в ее начало с сотворения мира и исход в катастрофу, крушение, смерть и вознесение к жизни вечной, Небесной Нарнии.
Так не умеет даже Пелевин, чьи герои раз за разом все-таки воссоздают наш разодранный, как завеса, мир.
* Некоторые произведения временно недоступны в каталоге MyBook по желанию правообладателей. Подборка будет обновляться.
** Фото: Анастасия Осипова
Для рубрики MyBook «Полка писателя» Валерия собрала свои любимые книги и рассказала, почему выбрала именно их.
«Кристин, дочь Лавранса», Сигрид Унсет
«Нарцисс и Златоуст», Герман Гессе
Комедии, Уильям Шекспир
«Чувство и чувствительность», Джейн Остин
Антология сатиры и юмора России ХХ века. Том 9. Литературная пародия

«Пестрые прутья Иакова», Владимир Мартынов

«Современный патерик», Майя Кучерская
Цикл Ведьмы, Терри Пратчетт
«Хроники Нарнии», Клайв Льюис
* Некоторые произведения временно недоступны в каталоге MyBook по желанию правообладателей. Подборка будет обновляться.
** Фото: Анастасия Осипова
Другие материалы по теме «Полка писателя»
О проекте
О подписке