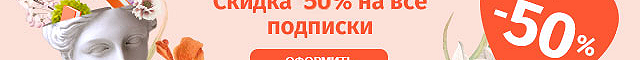
Владимир Сорокин
МЕТЕЛЬ
* * *
Покойник спать ложится
На белую постель,
В окне легко кружится
Спокойная метель…
Александр Блок
– Да поймите же вы, мне надо непременно ехать! – в сердцах взмахнул руками Платон Ильич. – Меня ждут больные! Боль-ны-е! Эпидемия! Это вам о чем-то говорит?! Смотритель прижал кулаки к своей барсучьей душегрейке, наклоняясь вперед: – Да как же-с нам не понять-то? Как не понять-с? Вам ехать надобно-с, я понимаю очень хорошо-с. А у меня лошадей нет и до завтра никак не будет!
– Да как же у вас нет лошадей?! – со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. – На что же тогда ваша станция?
– А вот на то, что лошади все повышли, и нет ни одной, ни одной! – громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. – Разве вечером чудом почтовые свалятся. Так кто ж знает – когда?
Платон Ильич снял пенсне и уставился на смотрителя так, словно увидал его впервые:
– Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают?
Смотритель, разжав кулаки, протянул руки к доктору, словно прося подаяния:
– Да как же не понять-с? Отчего ж нам не понять-с? Люди православныя помирают, беда, как же не понять! Но вы в окошко-то гляньте, что творится!
Платон Ильич надел пенсне и машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндевелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день.
Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки бабы-яги: они показывали четверть третьего.
– Третий час уж! – Он негодующе качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. – Третий час! А там и смеркаться начнет, понимаешь ты?
– Да как не понять-с, как же не понять… – начал было смотритель, но доктор решительно оборвал его:
– Вот что, батенька! Доставай мне лошадей хоть из-под земли! Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу. За саботаж.
Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться. Его слегка согнутая в пояснице фигура в короткой душегрейке, плюшевых штанах и высоких белых, подшитых желтой кожей валенках застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязаньем в дальнем углу за ситцевой занавеской, заворочалась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшее осточертеть доктору за эти два часа ожидания, пития чая с малиновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней «Нивы»:
– Михалыч, нешто Перхушу просить?
Смотритель сразу пришел в себя.
– Можно и Перхушу упросить, – почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. – Но они ж хотят казенных лошадей.
– Мне все равно каких! – воскликнул доктор. – Лошадей! Лошадей! Ло-ша-дей!
Смотритель зашаркал к конторке:
– Ежели он не у дяди в Хопрове, можно и упросить…
Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти:
– Миколай Лукич, Михалыч тревожит. Скажика, что наш хлебовоз к вам сёдни не проезжал? Нет? Ну и ладно. А как же! Куда ж нынче ехать, тут нет возможности никакой, а как же. Ну, благодарствуй.
Он осторожно положил трубку на рычажки и с признаками оживления на неряшливо выбритом, безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору:
– Стало быть, сёдни наш Перхуша за хлебом в Хопров не поехал. Здесь он, на печи лежит. А то он как за хлебом поедет, так сразу мимоездом – к дяде. А там – чай да лясы-балясы. К вечеру токмо нам хлеб и привозит.
– У него лошади?
– Самокат у него.
– Самокат? – сощурился доктор, доставая портсигар.
– Коль упросите его, он вас на самокате в Долгое и доставит.
– А мои? – наморщил лоб Платон Ильич, вспомнив свои сани, ямщика и пару казенных лошадей.
– А ваши тутова покамест постоят. На них потом и вернетесь.
Доктор закурил, выпустил дым:
– И где этот твой хлебовоз?
– Тут неподалеку. – Смотритель махнул рукой себе за спину. – Вас Васятка проводит. Васятка!
На зов его никто не откликнулся.
– Он, чай, в новой хате, – отозвалась из-за занавески жена смотрителя.
И тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла. Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый, тяжелый пихор на цигейке, влез в него, надел широкий лисий малахай с охвостьем, накинул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог распахнутой перед ним смотрителем двери в темные сени.
Уездный доктор Платон Ильич Гарин был высоким, крепким сорокадвухлетним мужчиной с узким, вытянутым, большеносым лицом, выбритым до синевы и всегда имевшим выражение сосредоточенного недовольства. «Вы все мне мешаете исполнить то очень важное и единственно возможное, на что я предопределен судьбою, что я умею делать лучше всех вас и на что я уже потратил большую часть своей сознательной жизни», – словно говорило это целеустремленное лицо с большим упрямым носом и подзаплывшими глазами. В сенях он столкнулся с женой смотрителя и Васяткой, сразу забравшим у него оба саквояжа.
– Седьмой дом отсюдова, – напутствовал смотритель, забегая вперед и открывая дверь на крыльцо. – Васятка, проводи господина дохтура.
Платон Ильич вышел на воздух, щурясь. Было слегка морозно, пасмурно; слабый, но не утихший за эти три часа ветер по-прежнему нес мелкий снег.
– Он с вас шибко много не возьмет, – бормотал смотритель, ежась на ветру. – Он мужик к барышу равнодушный. Лишь бы поехал.
Васятка поставил саквояжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке, подхватил саквояжи, затопал с крыльца по наметенному снегу:
– Пойдемте, барин.
Доктор двинулся за ним, дымя папиросой. Они пошли по заметенной, пустой деревенской улице. Снегу навалило, подбитые изнутри мехом докторовы сапоги проваливались почти вполголенища.
«Метет… – думал Платон Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на ветру папиросу. – Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна. Медвежий угол, да и только: никогда зимой здесь не сыскать лошадей. Зарекался, ан – нет, поехал, dumkopf[1] Ехал бы себе по тракту, там в Запрудном сменялся да и поехал дальше, ну и пусть, что на семь верст дольше, зато уже б в Долгом был. И станция порядочная, и дорога широкая. Dumkopf! Теперь хлебай тут киселя…»
Васятка бодро месил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как баба ведрами на коромысле. Пристанционное поселение хоть и именовалось деревней Долбешино, но на самом деле было хутором из десяти дворов, разбросанных неблизко один от другого. Пока по запорошенному большаку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пихоре. Возле этой старой, сильно осевшей избы все было заметено и отсутствовали следы человека, словно в ней и не жил никто. И только из трубы ветер рвал клочья белого дыма.
Путники прошли сквозь кое-как огороженный палисадник, поднялись на заметенное, накренившееся вбок крыльцо. Васятка толкнул плечом дверь, она оказалась незапертой. Они вошли в темные сени, Васятка наткнулся на чтото, сказал:
– Ох ты…
Платон Ильич с трудом различил в темноте две большие бочки, тачку и какой-то хлам. У хлебовоза в сенях пахло почему-то пасекой – ульями, пергой и воском. Этот летний, милый запах никак не вязался с февральской метелицей. С трудом пробравшись к обитой мешковиной двери, Васятка отворил ее, прихватив один из саквояжей под мышку, шагнул через высокий порог:
– Здравствуйте вам!
Доктор вошел за ним, уклонившись от притолоки.
В избе было чуть теплее, светлее и пустынней, чем в сенях: горели дрова в большой русской печи, на столе одиноко стояла деревянная солонка, лежала коврига хлеба под полотенцем, темнела одинокая икона в углу и сиротливо висели вставшие на половине шестого часы-ходики. Из мебели доктор заметил лишь сундук да железную кровать.
– Дядь Козьма! – позвал Васятка, бережно опустив саквояжи на пол.
Никто не отозвался.
– Нешто на двор пошел? – Васятка обернул к доктору свое широкое веснушчатое лицо со смешным, словно облупленным, розовым носом.
– Чаво там? – раздалось на печи, и показалась взлохмаченная рыжая голова с клочковатой бородкой и заспанными щелками глаз.
– Здоров, дядь Козьма! – радостно выкрикнул Васятка. – Тут вот дохтуру в Долгое приспешило, а казенных на станции нетути.
– И чаво? – почесалась голова.
– А вот свез бы ты его на самоходе-то.
Павел Ильич подошел к печи:
– В Долгом эпидемия, мне непременно надо быть там сегодня. Непременно!
– Эпидемия? – Хлебовоз протер глаз большими заскорузлыми пальцами с грязными ногтями. – Слыхал про эпидемию. Завчера на поште в Хопрове говорили.
– Меня там ждут больные. Я везу вакцину.
Голова на печи исчезла, послышалось кряхтение и скрип ступенек. Козьма спустился, закашлялся, вышел из-за печи. Это был малорослый, худощавый и узкоплечий мужик лет тридцати с кривыми ногами и непомерно большими кистями рук, какие случаются часто у портных. Лицо его, востроносое, заплывшее со сна, было добродушным и пыталось улыбнуться. Он стоял босой, в исподнем перед доктором, почесывая в своей рыжей, взъерошенной шевелюре.
– Вак-цину? – произнес он уважительно и осторожно, словно боясь уронить это слово на свой старый, истертый и щелястый пол.
– Вакцину, – повторил доктор и стянул с головы свой лисий малахай, под которым ему тут же стало жарко.
– Так ведь мятель, барин. – Перхуша глянул в подслеповатое окошко.
– Знаю, что метель! Там больные люди ждут! – повысил голос доктор.
Почесываясь, Перхуша подошел к окошку, обложенному по краям рамы пенькой.
– Я вон нынче и за хлебом не поехал. – Он смахнул пальцем проталину, проступившую в оконном инее от печного огня, глянул. – Ведь не единым хлебом жив человече, так?
– Сколько ты хочешь? – потерял терпение доктор.
Перхуша оглянулся на него, словно ожидая удара, молча пошел в угол справа от печи, где на лавке и полках стояли ведра, крынки и печные котлы, взял медный ковш, зачерпнул из ведра воды и стал быстро пить, дергая кадыком.
– Пять целковых! – предложил доктор таким угрожающим тоном, что Перхуша вздрогнул.
И тут же рассмеялся, отирая рот рукавом рубахи:
– Да на что мне…
Он поставил ковш, огляделся, икнув:
– А это… Я ж токмо что печь затопил.
– Там люди гибнут! – выкрикнул доктор.
Перхуша, не взглянув на доктора, почесал грудь, сощурился на окошко. Доктор смотрел на хлебовоза с таким выражением своего носатого, напряженного лица, словно был готов его избить или разрыдаться.
Перхуша вздохнул, почесал шею:
– Слышь, малой, ты тогда тово…
– Чаво? – раскрыл рот, не поняв, Васятка.
– Посиди тут. А как прогорит – заложишь трубу.
– Сделаю, дядь Козьма. – Васятка скинул с себя полушубок, свалил на лавку и сел рядом.
– У тебя самоход… какой тяги? – спросил доктор с облегчением.
– Пятьдесят лошадок.
– Хорошо! Часа за полтора и доберемся до Долгого. А назад поедешь с пятью целковыми.
– Да полно, барин… – с улыбкой махнул Перхуша своей большой, клешнеобразной рукой и хлопнул себя по худым ляжкам. – Ладноть, пойдем запрягаться.
Он скрылся за печью и вскоре вышел в серой шерстяной кофте грубой вязки и ватных штанах, подтянутых солдатским ремнем высоко, почти на груди, и с парой серых валенок под мышкой. Сев на лавку рядом с Васяткой и кинув валенки на пол, стал быстро наматывать портянки.
Доктор достал папиросу и пошел на воздух. Там было все то же: серое небо, пурга, ветер. Хутор словно вымер – ни человечьего голоса, ни собачьего лая.
Стоя на крыльце и втягивая бодрящий папиросный дым, Платон Ильич уже думал о завтрашнем дне: «Ночью вакцинирую, а утром пойдем на кладбище, глянем могилы. Лишь бы карантин не подвел по такой погоде, а то проберется какой-нибудь сквозь облогу, а потом – ищи ветра в поле. В Митино два кольца обложных и то не помогли – прорвались, покусали… Интересно, там ли уже Зильберштейн? Эх, кабы там! В четыре руки вакцинировать сподручней, мы бы с ним за ночь по всей деревне прошлись… Нет, не доберется он раньше меня из Усох, там, почитай, сорок верст, да по такой погоде… Вот повезло с этой метелью…»
Перхуша, тем временем обувшись, накинул на себя небольшой черный тулуп, подпоясал его кушаком, заткнул за кушак рукавицы, нахлобучил шапку, взял со стола ковригу, отрезал от нее краюху, сунул за пазуху, отрезал еще ломоть, откусил от него, пожевал, подмигнув сидящему на лавке Васятке:
– Рот бы чайком попарить, да неколи: ишь как разорался. Эпи-демия! Откуда ж он прикатил-то?
– Кажись, с Репишной. – Васятка протер глаз кулаком. – На почтовых. Ямщик казеннай, сразу спать залег.
– Чаво ж им не спать-то, казенным… – Перхуша прощально заглянул в печку, шлепнул Васятку по голове и, жуя, с куском ржаного хлеба пошел на задний двор.
Двор хлебовоза был так же неказист и стар, как и изба: кособочился пристроенный впритык хлев, неаккуратно громоздились кладни дров, поодаль стоял сенник с проломившейся и наспех прикрытой жердинами и соломой крышей, неподалеку чернела рига, в которой по всему ее виду вряд ли молотили последние года четыре. Зато маленькая, похожая на баньку конюшня была новорубленой, крытая широкой дранкой, с хорошо проконопаченными стенами, с двумя утепленными окошками. Рядом с ней под заснеженным навесом стоял и самокат. Загребая снег валенками, своей кривоногой и быстрой походкой Перхуша подошел к конюшне, сунул руку за пазуху, нашарил у себя под рубахой ключ на шнурке, вытянул и стал отпирать висячий замок.
За дверью послышался прерывистый резкий звук, словно застрекотал крупный сверчок. И сразу же – еще три таких же звука, потом еще, еще, и вдруг словно рой сверчков громко и настойчиво застрекотал на все лады. И тут же в хлеву хрюкнул боров. В конюшне застрекотали сильнее.
– Иду, засади вас… – Перхуша открыл замок, распахнул дверь и вошел в конюшню.
На него привычно и приятно дохнуло знакомыми запахами. Не притворив за собой дверь, чтобы видно было получше, он пошел через кузню и шорную прямо в стойло к лошадям. Радостный стрекот наполнил конюшню. В отличие от убогой избы и двора Перхуши конюшня его была образцовой, новой, чистой, опрятной, что сразу показывало главную страсть хозяина. Конюшня делилась пополам: сразу от двери начинались кузница и шорная, стоял верстак, на нем небольшая наковальня, здесь же крохотная печка размером с самовар, с мехами, изготовленными из пасечного дымаря, с инструментом, аккуратно разложенном на верстаке: ножи, молоточки, щипчики, буравчики, рашпили и банка с лошадиной мазью с кисточкой внутри. Посередине верстака стояла глиняная чашка, полная крошечных, с копейку, подков. Рядом – другая чашка, с кучей маленьких гвоздей для этих подков. На стене рядами висели маленькие хомутики, напоминающие сушеные грибы. Над верстаком висела большая керосиновая лампа.
За кузней и шорной в большой плетухе был сеновал с мелкоизрубленным клевером, рядом поднималась загородка, а за ней – лошадиные стойла. Улыбающийся Перхуша наклонился через загородку, и снизу раздалось многоголосое, переливчатое ржание пятидесяти малых лошадей. Все они стояли по своим стойлам, кто в парных, кто впятером, кто по трое. В каждом стойле имелись по два корыта-комяги – для воды и для корма. В комягах для корма белели остатки овсяной крупы, насыпанной лошадям Перхушей в пять утра.
– Ну что, засади вас, прокотимся? – спросил Перхуша своих лошадей, и они заржали еще громче.
Те, что помоложе, встали на дыбы, взбрыкнув передними ногами, коренные и степные фыркали, трясли и кивали головами. Перхуша опустил вниз свою большую грубую руку, другой же придерживал хлебный ломоть и стал трогать лошадей. Он касался их пальцами, трогал за спины, гладил по гривам, а они ржали, задирая кверху мордочки, играючи покусывали его руку маленькими зубами, тыкались в пальцы теплыми ноздрями. Каждая из лошадей была не более куропатки. Каждую лошадь он знал и мог рассказать, как и откуда она оказалась у него в стойле, какова ее история, какая она в деле, кто ее родители, каковы ее наклонности и характер. Костяк Перхушиного табуна составляли саврасые широкогрудые жеребцы с короткими, темно-рыжими хвостами, их было более половины, за ними шли каурки, караковые, восемь гнедых, четверо сивых, двое серых в яблоках и двое чалых – один вороно-чалый, другой рыже-чалый.
Здесь были только жеребцы и мерины. Малые же кобылы ценились буквально на вес золота, их держали только коннозаводчики.
– На-ка хлебца, – произнес Перхуша и стал крошить хлеб и кидать его в комяги.
Лошади склонились к ним. Искрошив весь хлеб и подождав, пока они съедят его, он хлопнул в ладоши и громко скомандовал:
– Айда запрягаться!
И рывком поднял единую загородку, открывающую все стойла сразу.
Лошади пошли по деревянному, чисто выметенному желобу, становясь сразу в нем табуном, здороваясь друг с другом, покусываясь, грегоча и побрыкиваясь. Желоб уходил в стену, за которой впритык стоял самокат. Перхуша смотрел на табун, лицо его посветлело и помолодело. Он всегда радовался своим лошадям, даже когда был усталый, пьяный или униженный людьми. Сдвинув в сторону стенную заслонку, он открыл проход лошадям в упрёх самоката. Табун шел бодро, несмотря на холод, дохнувший из стылого нутра самоката.
– Айда-айда, – подбадривал он лошадей. – Нынче не шибко пристужно, морозец терпимай…
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Метель», автора Владимира Сорокина. Данная книга имеет возрастное ограничение 18+, относится к жанру «Социальная фантастика». Произведение затрагивает такие темы, как «философская проза», «современная классика». Книга «Метель» была написана в 2010 и издана в 2015 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
