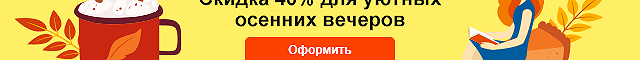Меньше всего возможностей было, конечно, для коллективной психотерапии. И гораздо больше, чем слово, действовал здесь пример. Был у нас один староста блока — не похожий на других, достаточно человечный. Он оказывал глубокое влияние на заключенных, ободрял их своей собственной стойкостью и силой духа. Его поведение было убедительнее слов. Но бывали обстоятельства, когда и слово становилось действенным, вызывало внутренний отклик, рождало ответное эхо. Я вспоминаю один случай, который вызвал у обитателей барака готовность к чему-то вроде общей беседы, приобретшей психотерапевтическое значение.
Это был скверный день. Только что на плацу нам было объявлено, что многие наши поступки будут отныне расцениваться как саботаж и наказываться немедленным повешением. К списку таких преступлений относилось теперь очень многое, например отрезание узких полосок от наших ветхих одеял — что мы часто делали (эти полоски служили нам подобием обмоток для утепления ног). Само собой, саботажем считалось и малейшее «воровство». А за несколько дней до этого один полумертвый от голода заключенный пробрался в картофельный бункер, пытаясь разжиться парой килограммов картофеля. «Взлом» был обнаружен, и от заключенных потребовали, чтобы они сами установили «преступника», иначе весь лагерь на целый день будет лишен еды. Естественно, 2500 заключенных предпочли лучше поголодать, чем увидеть своего товарища повешенным.
К вечеру этого дня мы все лежали на нарах, и настроение у нас было особенно плохое. Мы мало говорили, каждое слово раздражало. А тут еще свет погас, и наше раздражение достигло предела. И тогда староста, человек умный, завел разговор о том, что, пожалуй, втайне было в мыслях у каждого: о наших товарищах, которые в последние дни умерли от болезней или наложили на себя руки. Он сказал, что, видимо, в основе всех этих смертей лежал отказ от противостояния, отказ от самих себя. Он хотел знать наше мнение об этом — и о том, можно ли как-нибудь предотвратить новые жертвы, защитить людей от такого самоуничтожения. И он обратился ко мне. Видит Бог, я вовсе не был в том состоянии духа, когда хочется давать научные разъяснения, утешать кого-то, оказывать врачебную психотерапевтическую помощь. Мне тоже было до жути голодно и холодно, я тоже был слаб и раздражен. Но я был обязан как-то собраться с силами и не упускать этой необычной возможности: моим товарищам по бараку утешение было сейчас необходимее, чем когда-либо.