Рецензии не рукописи, они горят и пропадают. Так я сегодня сама удалила нечаянно свою рецензию, написанную год назад. Попытаюсь восстановить.
В сборнике три произведения Станислава Лема.
Хорошо помню Солярис, так как полюбила его до прочтения книги по фильму Андрея Тарковского. Книга интересна иначе. Она совсем другая. Немного перегружена докладами, семинарами и конференциями по физике "будущего". Но так как физика в будущем стала совсем не той, что описывал Лем, то читать становится скучно.
Для меня Солярис - это не о физике. Это книга о человеке, о его познании самого себя. Очень интересный образ познания через сны и при помощи общения с Океаном. Для меня и книга и фильм до сих пор остаются загадкой. Но что-то они открыли во мне, именно эту тягу к самокопанию, наверно. Самая лиричная книга Лема.
Два других произведения в сборнике мне трудно было читать.
В Эдеме это мир, который я просто не могла представить. С трудом пробивалась, напрягая всю свою фантазию. Но как это представить то, чего ты никогда не видел, не слышал, и даже никаких слуховых или обонятельных ассоциаций нет. В конце книги я прониклась симпатией к очень в моем представлении неуклюжим, огромным и добрым инопланетянам, защищающим свою планету.
У Лема тема защиты планет от чужого нашествия прослеживается и в Эдеме. Это произведение читается проще, но все равно не мое.

- Главная
- Научная фантастика
- ⭐️Станислав Лем
- 📚«Солярис. Эдем. Непобедимый (сборник)»

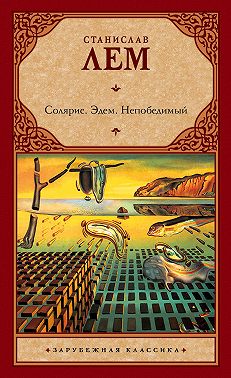
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
Солярис. Эдем. Непобедимый (сборник)
616 печатных страниц
Время чтения ≈ 16ч
2016 год
16+
Эта книга недоступна.
Узнать, почему«Солярис». Величайшее произведение Станислава Лема, ставшее классикой мировой прозы XX века.
«Эдем» – один из самых ярких романов Лема, сочетающий в себе черты жесткой и антиутопической НФ.
«Непобедимый» – произведение, объединяющее в себе высокую интеллектуальность философской притчи с увлекательностью традиционной «сюжетной» научной фантастики.
Больше интересных фактов о жизни и творчестве Станислава Лема читайте в ЛитРес: Журнале
читайте онлайн полную версию книги «Солярис. Эдем. Непобедимый (сборник)» автора Станислав Лем на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Солярис. Эдем. Непобедимый (сборник)» где угодно даже без интернета.
- Дата написания:
- 1 января 1959
- Объем:
- 1110043
- Год издания:
- 2016
- Дата поступления:
- 25 октября 2024
- ISBN (EAN):
- 9785170617517
- Переводчик:
- Ариадна Громова
- Время на чтение:
- 16 ч.
Поделиться
AntesdelAmanecer
Оценил книгу
Поделиться
Kitty
Оценил книгу
Почему-то так сложно собрат мыли после прочтения Лема. Знаю точно, что он мне безумно понравился. Эта научная фантастика с огромным количеством технических подробностей и не менее подробными описаниями созданных миров, абсолютно чуждым человеку, не могла меня оставить равнодушной. Хотя как раз из-за этого, и поднимающихся в тексте философских проблем книга читалась тяжеловато, с остановками, размышлениями и перечитыванием по несколько раз отдельных моментов. Но и после этого остались не до конца понятыми отдельные намеки автора и появились вопросы...
"Солярис"
Главный герой - Крис Кельвин, психолог, прилетает на станцию на планете Солярис, чтобы проверить подозрения, что на станции что-то происходит и это не докладывается на Землю. На месте он обнаруживает полнейший беспорядок и двух ученых, которые на первый взгляд кажутся сошедшими с ума.
Солярис - планета, на которой только один житель - океан, покрывающий всю планету и обладающий разумом. И этот океан после воздействия на него жестким излучением довольно своеобразно устанавливает связь с обитающими на станции людьми - извлекая из их памяти потаенные мысли и материализуя людей из этих воспоминаний...
"Эдем" удивил меня своими безликими персонажами и всего лишь одним указанным именем: Инженер - Генрих, а остальные просто Доктор, Физик, Химик, Кибернетик и Координатор. Эти шесть человек случайно упали на Эдем, повредили ракету и, пытаясь её отремонтировать, совершают вылазки для исследования планеты. Не поддающиеся описанию технологии, непонятная техника, загадочные существа двутелы, населяющие Эдем, и не менее чуждое для понимания строение их общества...
Единственное, что смутило во время прочтения, так это то, что люди слишком уж шустро начинали стрелять, не разобравшись есть ли другие пути решения проблем.
"Непобедимый" - крейсер, которого послали для выяснения причин пропажи крейсера такого же класса под названием "Кондор" и судьбы его команды. Прилетев на планету, они обнаруживают лишь безжизненную с первого взгляда пустыню...
Тут понравилась идея эволюции машин, которые воюют за выживание на планете и с другими машинами, и с живыми существами.
Поделиться
oksana_bon
Оценил книгу
Будучи наслышана о «Солярисе» Тарковского, я давеча решила познакомиться с «Солярисом» Лема. Благо в руки попался замечательный сборник с 3-мя романами, описывающими фантастические приключения экипажей космических кораблей на далеких планетах и трудностях общения с внеземными цивилизациями. Во всех трех произведениях чувствуется одна тема: прилетевший человек – всего лишь временный гость на планете, который не вправе вмешиваться в другие миры и устанавливать там свои порядки, пусть даже и руководствуясь самыми благими намерениями.
Я слышала, что Солярис считается чуть ли не главным шедевром автора (по крайней мере он больше всего на слуху), но лично мне "Непобедимый" понравился больше. Странно, что его, в отличии от Соляриса, еще не экранизировали. Солярис - отличное произведение, глубокое, наполненное разными философскими идеями, над ним приятно поразмыслить, но "Непобедимый" показался интереснее, он и философский, и очень динамичный. А какая тут шикарная интрига! Космический корабль «Непобедимый» совершает посадку на далекую и необитаемую планету, где какое-то время назад исчез другой земной корабль. По мере исследования планеты становится ясно, что она населена существами, с которыми человек ещё не сталкивался. Много времени пройдет и многие погибнут прежде чем разгадка будет найдена.
А вот «Эдем» мне показался самым скучным, хотя начало было многообещающим :)
Поделиться
Переводчик
Другие книги переводчика
О проекте
О подписке