Из этого видно, что я действовал в собственном интересе, когда решился не мешать ее счастью: благородная сторона была в моем деле, но движущею силою ему служило влечение собственной моей натуры к лучшему для меня самого. Вот поэтому-то я имел силу действовать, могу сказать, – хорошо: не пошатываться туда и сюда, не делать лишней суеты и неприятностей другим, не изменять своей обязанности. Это легко, когда обязанность – влечение собственной натуры. Я уехал в Рязань. Через несколько времени она вызвала меня, говоря, что мое присутствие уже не будет мешать ей. Я увидел, что оно все-таки мешает. Сколько я могу понять, тут были две причины. Ей было тяжело видеть человека, которому она была слишком много обязана, по ее мнению. Она ошибалась в этом, она не была нисколько обязана мне, потому что я действовал гораздо больше для себя, нежели для нее. Но ей представлялось иначе, и она чувствовала чрезвычайно сильную признательность ко мне. Это чувство тяжелое. В нем есть приятная сторона, но она имеет верх только тогда, когда чувство не слишком сильно. Когда оно сильно, оно стеснительно. Другая причина, – это опять несколько щекотливое объяснение, но надобно говорить то, что думаешь, – другую причину я нахожу в том, что ей была неприятна ненормальность ее положения в смысле общественных условий; ей было тяжело то, что недоставало со стороны общества формального признания ее права занимать это положение. Итак, я увидел, что ей было тяжело мое существование подле нее. Я не скрою, что в этом новом открытии была сторона, несравненно более тяжелая для меня, чем все чувства, которые испытывал я в прежних периодах дела. Я сохранял к ней очень сильное расположение: мне хотелось оставаться человеком, очень близким к ней. Я надеялся, что это так будет. И когда я увидел, что этого не должно быть, мне было очень, очень прискорбно. И тут уж не было вознаграждения прискорбию ни в каких личных расчетах; я могу сказать, что тут мое решение, мое последнее решение было принято единственно по привязанности к ней, только из желания, чтобы ей было лучше, исключительно по побуждениям не своекорыстным. Зато никогда мои отношения к ней, и в самое лучшее свое время, не доставляли мне такого внутреннего наслаждения, как эта решимость. Тут я поступал уже под влиянием того, что могу назвать благородством, вернее сказать, благородным расчетом, расчетом, в котором общий закон человеческой природы действует чисто один, не заимствуя себе подкрепления из индивидуальных особенностей, и тут я узнал, какое высокое наслаждение – чувствовать себя поступающим как благородный человек, то есть так, как следует поступать вообще всякому человеку, не Ивану, не Петру, а всякому, всякому без различия имен: какое высокое наслаждение чувствовать себя просто человеком, – не Иваном, не Петром, а человеком, чисто только человеком. Это чувство слишком сильно; обыкновенные натуры, какова моя, не могут выносить слишком частого возвышения до этого чувства; но хорошо тому, кому случалось иногда испытывать его.
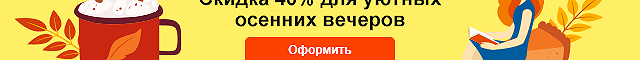
Цитата из книги «Что делать?»
Бесплатно
4.33
(103 оценки)
Читать книгу: «Что делать?»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке