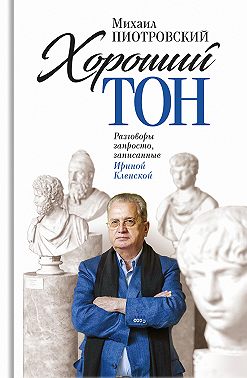4,5 из 5⭐
Не знаю, чего я ожидала от книги, но точно не тематических записей бесед. А книга оказалась именно записью после радиопередач на "Орфее". Каждая глава вещала о каком-то тематическом направлении мысли, что становится ожидаемым из оглавления.
Огромным удивлением для меня была беседа о Коране, о восточной культуре, менталитете- именно с этого началась данная книга. Я не знала, что директор Эрмитажа- востоковед.
Во второй главе книги, да и в остальных тоже, Пиотровский рассказывает об экспонатах Эрмитажа и их авторах. И, прежде чем читать о них, лучше гуглить и смотреть фотографии. Иначе- смысл? Ведь в книге (я читала электронный вариант) не было иллюстраций и поэтому я постоянно смотрела в интернете, о чём говорит Пиотровский, как, например, выглядит Царица ваз, или чем отличается скульптура Зевса в Эрмитаже от скульптуры Октавиана Августа там же.
Пиотровский в своих рассказах приводит много интересных цитат, притч, мифов, иллюстрирующих его повествование. Изумляешься, сколько всего знает директор Эрмитажа.
Что мне понравилось, Пиотровский подробно рассказал о многих директорах Эрмитажа, начиная с самого первого, Гедеонова, и заканчивая Орбели (блокадное и после блокадное время).
Самой впечатляющей для меня была глава о жизни Эрмитажа в блокаду.
А вот самым сложным было читать рассказы о неизвестных мне картинах. В большинстве своём я не видела в них того, о чём говорил автор. Меня не восхищали эти нагромождения тел Рафаэля и менее известных старых художников. Например, Пиотровский рассказывает о картине Лукаса Кранаха Старшего
"Венера и Амур", я гуглю, смотрю и понимаю, что устала уже от этой мифологии, которую европейские художники эксплуатировали именно так: герои голы, лица их часто неприятны в эмоциях, ситуации то провоцирующие, то агрессивные, то демонстративно страдающие. Такое восприятие мира старыми художниками средневековья стало раздражать, захотелось посмотреть на спокойные, счастливые лица, не как у древнеримских богов, не как у Девы Марии, не как у какого-нибудь короля на коне, не как у младенца или купидона со старческим и неприятным лицом, а у простых героев. Захотелось даже соцреализма! Нормальных жизненных ситуаций, как, например, в "Утре" Татьяны Яблонской, где девочка делает зарядку у открытого окна. И нет здесь никаких скрытых смыслов, зашифрованных тайн. Это интересно у одной- другой картины, но когда этого избыток- ты устаёшь.
Почему Пиотровский выбрал именно эти картины для своего восторженного рассказа, я так и не поняла. После этих рассказов директора Эрмитажа я стала не любить греческие и римские мифы, библейские сюжеты, на основе которых и формировалась культура Европы на протяжении многих веков. Предпочла бы даже перейти на парадные портреты "графьёв" или средневековые натюрморты, но не видеть уже эти жестокие или вычурные сцены из мифов. Думаю: ну как люди выжили бы в подобном мире, будь это правдой? Одна только картина Гойи "Сатурн, пожирающий своего сына" чего стоит- сам жить не захочешь, если видеть её каждый день, а ведь это просто аллегория времени. Но по подобному принципу писались художниками и другие мифы и притчи. Буквально. Слава богу, картина Гойи хранится не у нас в стране, не в Эрмитаже и Пиотровский о ней не рассказывал в своей книге, иначе я б не выдержала восторгов. Просто у меня в голове от рассказов Пиотровского (очень поэтичных!) о выбранных им картинах, от нагромождения всех этих средневековых картин (великолепных, с точки зрения искусствоведов, ценителей) возникло именно такое ощущение, как от картины Гойи. По итогу возникло чувство лишнего, переизбытка информации, фантазий, символизма, неправильных толкований, навязывания своего видения художниками того, что вымышлено, того, что обычный зритель воспримет как реальность. Уведя от настоящей реальности. Где не было многого из того, что изображено на картинах и что принято сейчас изучать, тратя на это годы. Впервые у меня возникло чувство, что всё это- другой мир, не для всех, а только для тех, кому хочется чувствовать себя особенными. Окунуться в этот мир и поверить, что это- самое важное, искусство ценнее самих людей. И это, вместо того, чтобы восхищать самоотверженностью, оттолкнуло меня.
Не то чувствуешь, когда рассматриваешь скульптуры, вазы, украшения и читаешь о них. Вот тут восторг от умения людей, от их чувства красоты, изящного, от желания выразить себя через прекрасную вещь, от желания подарить её миру или конкретному человеку.
И ведь подобное чувство возникло просто от выбора Пиотровского, о каких именно картинах рассказать.
В одной из глав книги Пиотровский рассказывал об искусстве 20 века. Пикассо. Рассказал о "Девушке с веером" , о "Танце с покрывалами", далее выбрал картину "Две сестры":
Из Барселоны, весной, он писал в Париж маркизу Жакобу: «Я хочу написать картину по рисунку, который тебе посылаю, – “Встреча проститутки из тюремной больницы с её сестрой-монахиней”». Набросок сделан в тюрьме Сен-Лазар – мрачное место, тюрьма-госпиталь, в которой держали проституток и их детей. Картина названа «Две сестры» («Свидание»). Казалось бы, обычная история – уличная женщина и монахиня – превращается в глубокие символы человеческого страдания, отчаяния и надежды, несмотря на обстоятельства, понимания и сопереживания. Искусство проистекает из боли и печали. Жизнь наполнена тёмно-синими красками – красками одиночества, тоски. Печаль – вот что рождает искусство. Чем дольше вглядываешься в эту пронзительную сцену, сцену встречи, тем светлее становится на душе.
И после этого хочется сказать: "едрить тебя коромыслом!"
И ещё одна цитата, которая мне очень не понравилась, просто резанула:
Эрмитаж дарит возможность сравнивать, изучать, сопоставлять, искать и находить неуловимые смыслы и оттенки. Искусство – волшебство, помогающее переносить муку повседневности.
Ещё раз:
Искусство – волшебство, помогающее переносить муку повседневности.
Ты живёшь и думаешь, как счастлив человек, работающий в подобном месте, живущий всю свою жизнь в Эрмитаже. А он говорит о "муке повседневности". Каково?!
Хотя меня впечатлило, как Михаил Пиотровский преподнёс одну из своих любимых картин Матисса "Арабская кофейня" (уже потом я поняла, что Пиотровский- востоковед и это оставляет отпечаток на всём, что он говорит). Я посмотрела на неё в интернете и... Такое разочарование. А вот после слов Пиотровского относишься к теме иначе. Не к картине, правда, но к подаче того, что человек хотел передать в своём произведении. Впечатлило. И я сохранила цитаты об этом.
У Пиотровского очень много размышлений и домысливаний, предложений подумать над увиденным, разобрать символику, намёки, аллегории, отсылки автора картины. Он говорит, что это целый мир, неоднозначный, интересный, к которому нельзя относиться спешно и поверхностно:
Поскольку во всех изображениях каждый может увидеть нечто особенное, рассматривание картин побуждает к игре ума и воображения.
И:
Давний спор: искусство – наслаждение или знание? На самом деле и то и другое, и более того – одно невозможно без другого. Сложно?! Кто сказал, что должно быть легко? Мы так долго стремились всё упрощать, что пришло время задуматься: как научиться усложнять и понимать, что мир, жизнь, искусство – очень тонкие и сложные миры, и чтобы понять их – нужно учиться и с благоговением относиться к сложному и прекрасному миру.
И ещё. Об отношении Пиотровского к музею и его посетителям:
Вы попадаете в музей, в мир волшебный, таинственный, у него свои законы и свои правила. У нас, к сожалению, многое запрещалось и многое запрещается. Я думаю, что музеи должны оставаться территорией, свободной от диктатуры запретов. Музей – место, где каждый может принимать собственные решения, руководствоваться своим вкусом, своим мнением: можно спорить, не соглашаться, высказываться, но никто не может открывать дверь музея, этого храма культуры, грязными ботинками и хамскими словами указывать, что нужно показывать, а что нельзя. Музей сам принимает решения и несёт ответственность за свои решения перед прошлым, настоящим и будущим. У музея есть право и есть правила, которые нужно уважать и соблюдать. Музей – поле бессмертия, но и бесстрашия.
Странно, Пиотровский часто говорит о том, что он против всеобщей доступности Эрмитажа, и от этого веет таким отталкивающим снобизмом, что это злит. Ты чувствуешь собственное бессилие. И вспоминаешь иное отношение- Ирины Антоновой в Пушкинском музее. И только после мыслей о ней успокаиваешься. Какие разные люди! К Пиотровскому у меня сложилось противоречивое отношение: уважение и неприятие одновременно.
Очень интересен был рассказ Пиотровского о Екатерине II, основательнице Эрмитажа. Это была уже запись 5-ой беседы на радио "Орфей", поэтому некоторые мысли о жизни музея повторялись, но не о Екатерине, не о её покупках коллекций, не об Эрмитажном театре. Для меня 5- ая глава книги стала самой впечатляющей (после рассказа о блокаде), я душой отдыхала после предыдущих рассказов о картинах.
В общем, неожиданно книга навела меня на совершенно иные мысли, чем планировалось при чтении. Я не набралась знаний, сведений было слишком много, ясное дело, что всё не запомнилось, но книга вызвала интерес и желание изучать тему музейной жизни и дальше.
Я не всеядна и поняла, что именно мне важно, а что так- для общего развития. Всё- таки искусство- вещь субъективная. А книга стоит того, чтобы её прочитать.
P.S. Наверное, добавлю ещё одну цитату. Важную. Резюмируя. Вот эту:
Можно ли пресытиться красотой и великолепием? Конечно можно. Рассказывают, что Святослав Рихтер, в какой бы стране ни был, обязательно первым делом посещал музей. Он выбирал одну-две работы, долго стоял перед ними и уходил. Его спрашивали: «Почему вы не хотите посмотреть всё собрание?» Он отвечал: «Мне достаточно, я насытился, я наполнен. И мне нужно не растратить эти чувства, а их сохранить. Обилие впечатлений бывает губительно». Он прав. Но, прежде чем научиться выбирать то, что нужно душе, есть смысл всё-таки походить по музею, всмотреться, не пожалеть своего времени, но и не переборщить – уметь вовремя уйти, чтобы захотеть вернуться.