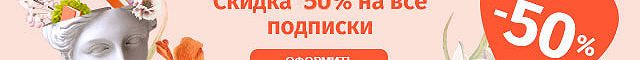
Флориан Иллиес
1913. Лето целого века
Январь
Это месяц, в котором Гитлер и Сталин встречаются, гуляя по парку дворца Шёнбрунн, Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке – сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльзе Ласкер-Шюлер не на что жить, она влюбляется в Готфрида Бенна, получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля. Но все тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы».
Эрнст Людвиг Кирхнер и Эрна Кирхнер (Шиллинг) в мастерской на Дурлахерштрассе, 14 (Музей Кирхнера, Давос) (фрагмент).
Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит на металле курка – и второй глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг.
Украденным револьвером двенадцатилетний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге ночь он проводит в камере, а ранним утром первого января его отправляют в исправительное заведение, Colored Waifs' Home for Boys. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения, Питеру Дэвису, не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу (вообще-то он хотел надавать ему пощечин). И – о чудо – Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью сжимает ладонями инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл – но вместо выстрела, уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые, буйные звуки.
«Только что грянула полуночная пушка, крики с моста и с улицы, бой часов и колоколов отовсюду»[1], – сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при Королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине в квартире на Иммануэлькирхштрассе, 29 и состоит из одного-единственного человека, но этот человек для него – весь мир: Фелиция Бауэр, двадцать пять лет, волосы светлые, сама худощавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе – дождь лил как из ведра – случилось их короткое знакомство: у Фелиции промокли ноги, у него – душа ушла в пятки. Но с тех пор каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем – еще по одному вдогонку. Когда однажды от Фелиции пару дней не было писем, Кафка, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за «Превращение». Он рассказывал ей про эту историю, а незадолго до Рождества ее закончил (теперь она лежала у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией). Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. Не побила бы она его зонтиком, вопрошает он из пустоты, если бы он просто остался в постели, случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте-на-Майне, чтобы после выставки сходить в театр, – примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он безобидно заклинает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И все для того, чтобы «вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот». Прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазии о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось: «Да что же это такое лезет мне в голову», – пишет он. Объяснение просто: «Это все число 13 в дате Нового года». Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе: с жестокого фантазма.
Объявление о розыске. Пропала: «Мона Лиза» Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра – и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби, его отпускают домой. В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене.
В первые дни января – точная дата неизвестна – на венский Северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида тридцатичетырехлетний русский. Он хромает. В этом году его волосы еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть оспины. Только прибыв, в поношенных ботинках и с набитым чемоданом, он не медля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинское «Ставрос Пападопулос», стоявшее в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице не вызвало подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы, седьмой раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, – втолковывал он. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, а теперь выдавал себя за Ставроса Пападопулоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до Рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день как он вообще мог ходить. Мой «чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромая, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. В добрый путь, товарищ.
Границу он пересек беспрепятственно, лихорадочно корпел в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке.
Прибыв в Вену, он снял маску грузинского имени. С января 1913 года он говорил: меня зовут Сталин. Иосиф Сталин. Сойдя с трамвая, он заметил слева дворец Шёнбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще: «Дверной звонок – Трояновский». И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно жмет кнопку звонка. При появлении служанки произносит кодовое слово.
В Вене на Берггассе, 19 кошка прокрадывается в кабинет Зигмунда Фрейда, где началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время – поздней осенью к кругу господ присоединилась Лу Андреас-Саломе: поначалу на нее косились с подозрением, теперь – глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреас-Саломе носила целую коллекцию скальпов гениев, добытых ею: с Ницше она была в одной исповедальне в соборе Святого Петра, с Рильке – в одной постели и в гостях у Толстого в России; считается, что в ее честь Франк Ведекинд назвал свою «Лулу», а Рихард Вагнер – свою «Саломею». Теперь ее трофеем стал Фрейд – по крайней мере, трофеем интеллектуальным: этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел, а также выслушивать жалобы на К.Г. Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, к тому моменту уже пятидесятидвухлетнюю Лу Андреас-Саломе, автора нескольких книг о Духе и Эротике, маэстро сам обучал психоанализу – в марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. Теперь она пришла на семинар «Общества среды»: рядом с ней – ученые коллеги, справа – уже тогда ставшая легендарной кушетка, и везде статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, пытаясь скрасить свое пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас-Саломе сообщает: «При этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания: холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на предмет, и если Фрейду вдруг становилось мало ее эгоистично-нарциссического урчания, то ему приходилось жертвовать собственным комфортом и, опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки». Впредь у кошки всегда был доступ на эти собрания, а когда она захворала, ей даже было дозволено, завернутой в компресс, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии.
Кстати о хворающих. Куда делся Рильке?
Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое «Мученичество Святого Себастьяна», предусмотрительно датируя посвящение годом «1912+ 1». Арнольд Шёнберг тоже затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел двенадцатитоновую музыку – основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что его ждет. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шёнберга цифру 13 и не встретишь: ни такта такого нет, ни страницы. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «а» из имени Аарон, так что с тех пор она называется «Moses und Aron». А тут – целый год под знаком чертовой дюжины. Шёнберг родился 13 сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но все тщетно. Арнольд Шёнберг умер в пятницу, 13-го (правда, лишь в 1913 + 38, то есть в 1951 году). Но и год 1913-й готовит ему сюрприз. На публике ему дадут оплеуху. Но все по порядку.
Для начала на сцене: Томас Манн. Ранним утром 3 января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса, то и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, эта история с санаторием. Что ж, через пару недель для начала пусть выйдет «Смерть в Венеции».
Томас Манн сидит в поезде, переживает за свой гардероб: какая досада – всякий раз одежда мнется в поездке; по прибытии в гостиницу незамедлительно отдать пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Да так важно, что всем кажется, будто это ходит проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бад-Кёзен, Заальские виноградники, – занесенные снегом, они, словно полоски зебры, тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый, но Томас Манн чувствует: чем ближе Берлин, тем сильнее страх.
С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтерден-Линден»; регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающихся к лифтам. Затем поднимается в свой постоянный номер – обстоятельно приодеться и лишний раз пройтись расческой по усам.
В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманнштрассе, 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов.
В восемь вечера начнется их дуэль. В пятнадцать минут восьмого оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к Немецкому театру, прибывают одновременно. Игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря – но это только между нами – он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Принсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного и гордого уроженца Вроцлава, и кинулась на грудь Томасу Манну – сухому, как полено, ганзеату. Уму непостижимо. Но, может быть, сегодня вечером – удачный шанс с ним расквитаться.
Томас Манн садится в первом ряду, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером – берлинская премьера его «Фьоренци», которую он писал в пору, когда привыкал любить Катю. Но он предчувствует фиаско – пьеса давно была его больным местом. Во избежание драмы не следовало драму и лепить, – думает он. «Кое-что я пытался спасти, но, кажется, меня не слышат», – написал он Максимилиану Гардену перед тем, как выйти в Мюнхене из дома на Мауэркирхенштрассе, 13.
Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. Как бы то ни было, то, что он в декабре увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Он мучительно следит за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс – но не ладится никак: одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици.
Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем РЯДУ – Альфред Керр: карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядная, и, тем не менее, ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда Керр ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Он смакует мысль, что в его руках теперь и Томас Манн, и бездарная «Фьоренца». Он уже знает, что сожмет ладони очень крепко, а разожмет – на землю рухнут бездыханные тела.
Занавес, любезные аплодисменты – любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке приглашает Томаса Манна на сцену аж дважды. Он не скоро устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды! Тот чинно кланяется – дважды! – но выходит как-то неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Этой же ночью, вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится за печатную машинку и набирает римскую «I». Керр нумерует каждый абзац, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю: «Автор – душа тонкая, и даже чересчур, корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости автора». И начинает кромсать: эта дама, Фьоренца, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла донельзя вялой, сама пьеса, сочиненная не иначе как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал.
Пронумеровав десятый абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист: уничтожение.
Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Дер Таг». 5 января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. Пьеса его сочинена «не по-мужски», написал Керр, – это заденет Манна больше всего. Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна или просто сам Манн понял это как намек, – суть одно. Керр – как кроме него один лишь Краус – знал толк в том, какими словами больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, «до крови», как он пишет. Всю весну 1913 года он так и не оправится от этой критики, ни одно его письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гуго фон Гофмансталю Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая пачкотня, из которой любому будет ясна кровожадность ее сочинителя!»
Он написал это лишь потому, что меня не заполучил, милый мой Томми, – утешает мужа вернувшаяся с лечения Катя, по-матерински гладя его по голове.
Закладываются основы двух национальных мифов: в Нью-Йорке выходит первый номер журнала «Вэнити Фэйр», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета сети Aldi.
А у Эрнста Юнгера что? «Четверка с минусом». По крайней мере, такую оценку семнадцатилетний Юнгер получает в реформированной школе Хамельна за сочинение о «Германе и Доротее» Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время Французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей тихой Рейнской долины». Но учителю мало. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаём: Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто еще не принимал его всерьез.
Каждый вечер Эрнст Людвиг Кирхнер садится в поезд свежеотстроенного метро и едет до Потсдамской площади. В Берлин вместе с Кирхнером переехали и другие художники «Моста» из Дрездена, этого забвенного летнего города барокко, где они его и основали: Эрих Хеккель, Отто Мюллер, Карл Шмидт-Ротлуф. Они были сплоченной общностью: делили краски и женщин, так что порой и неясно, где чья картина. Но Берлин, эта вечно пульсирующая недостижимость, называемая столицей, лепит из них индивидуумов и пилит мосты, их связующие. В Дрездене все они были в своей стихии, воспевая чистые цвета, природу, человеческую наготу. В Берлине им грозит гибель.
Эрнст Людвиг Кирхнер обретет свою стихию лишь в Берлине – перевалив за тридцатилетний рубеж. Его искусство городское, суровое, пропорции фигур удлиненные, а стиль рисунка резок и агрессивен, как сам город. Лак покрывает его полотна, будто копоть метрополии оседает на лбу. Уже в вагонах метро его глаза жадно впитывают людей, на коленях он делает первые быстрые наброски: два-три штриха карандашом – мужчина, шляпа, зонт. Потом он выходит, пробирается сквозь толпы людей, сжимая в руке альбомы и краски. Его тянет в «Ашингер», где можно просидеть весь день, заплатив за одну тарелку супа. Там и проводит вечера Кирхнер и все смотрит, рисует и смотрит. Темнеет быстро, шум на площади оглушителен – на ней самое оживленное движение в Европе: здесь пересекаются не только центральные транспортные артерии города, но также линии и традиции модерна. Если подняться из метро в мокрый снег дня, то увидишь конные повозки, перевозящие бочки, а рядом с ними – первые шикарные автомобили и пролетки, пытающиеся не въехать в лошадиные лепешки. Несколько трамваев одновременно пересекают большую площадь, их металлический скрежет на поворотах заполняет пространство во всю ширь. И посреди этого – люди, люди, люди, все бегут, словно у них истекает время, над ними рекламные щиты, анонсирующие цены на сосиски, кёльнскую воду и пиво. А под аркадами – элегантные кокотки, проститутки, единственные, кто на этой площади замер, словно пауки на краю своей сети. Траурные вуали укрывают их лица от внимания полицейских, но в глаза бросаются огромные шляпы – причудливые башни с перьями под уличными фонарями, которые с наступлением зимнего вечера загораются зеленым газовым светом.
Этот бледный зеленый свет, горящий на лицах кокоток на Потсдамской площади, и дробящийся шум большого города Кирхнер хочет превратить в искусство. В полотна. Но пока он не знает, как. И поэтому просто продолжает рисовать. «К своим рисункам я обращаюсь на ты, – говорит он, – а к картинам – на вы». Он убирает в папку своих закадычных друзей – целую пачку эскизов, которые за последние часы набросал за столом – и несется домой, в мастерскую. В Вильмерсдорфе, на Дурлахерштрассе, 14, второй этаж, Кирхнер обустроил свое логово: все занавешено восточными коврами, заставлено фигурками и масками из Африки и Океании, японскими зонтиками. Здесь и его собственные скульптуры, его мебель, его картины. На фотографиях тех лет Кирхнер либо обнажен, либо в черном костюме с галстуком, в белоснежной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, с сигаретой, небрежно зажатой в руке, а-ля Оскар Уайльд. Рядом всегда Эрна Шиллинг, его любовница, сменившая собой самозабвенную, в мягких контурах, дрезденскую Додо; современная свободомыслящая женщина с короткой стрижкой, физиогномически – поразительного сходства с Фелицией Кафки. Она украсила квартиру Кирхнера вышивками по собственным и по его эскизам.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «1913. Лето целого века», автора Флориана Иллиеса. Данная книга имеет возрастное ограничение 16+, относится к жанрам: «Зарубежная образовательная литература», «Зарубежная публицистика». Произведение затрагивает такие темы, как «историческая публицистика», «биографии писателей и поэтов». Книга «1913. Лето целого века» была написана в 2012 и издана в 2013 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке

