Ничего не буду говорить о том, как написано.
Скажу только о том, что написано. Фотожурналистка описывает свою поездку волонтером в Гватемалу и Никарагуа.
И это интересно как очень многие книги, рассказывающие о сторонах жизни, которых мы не видим и не знаем. О совершенно другом укладе и традициях, о том, что можно выживать и так: питаясь один раз в день, живя в доме из клеенки и с единственной клиникой, открытой волонтерами, расположенной в нескольких километрах. И на свою жизнь начинаешь смотреть совершенно иначе.

- Главная
- Современная русская литература
- ⭐️Евфросиния Капустина
- 📚«Люди, которых нет на карте»

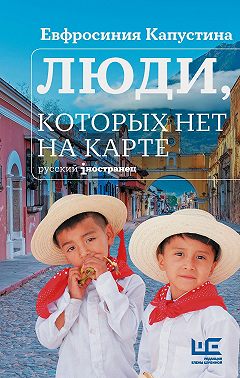
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
Люди, которых нет на карте
156 печатных страниц
Время чтения ≈ 4ч
2024 год
16+
Чтобы читать онлайн
Евфросиния Капустина – поэт, прозаик, фотожурналист. Руководит фотоотделом в международной благотворительной организации Health & Help. Проводила съёмки в России, Гватемале и Никарагуа. Победительница международного конкурса «Мост Дружбы», финалистка премии «Лицей» им. А.С. Пушкина.
«Люди, которых нет на карте» – так можно назвать жителей деревень Гватемалы и Никарагуа, чей быт невообразимо скромен, а сердце – огромно. Люди, чью жизнь автор вместе с врачами и волонтёрами делают чуть выносимее и лучше.
читайте онлайн полную версию книги «Люди, которых нет на карте» автора Евфросиния Капустина на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Люди, которых нет на карте» где угодно даже без интернета.
- Дата написания:
- 1 января 2024
- Объем:
- 281678
- Год издания:
- 2024
- Дата поступления:
- 28 января 2025
- ISBN (EAN):
- 9785171655853
- Время на чтение:
- 4 ч.
Поделиться
SigryLinn
Оценил книгу
Поделиться
NatalyaGavryukova
Оценил книгу
На нашей большой планете, на стыке двух больших материков (Южная и Северная Америки) располагается маленький участок, который назвали Центральной Америкой. На этой небольшой части суши находятся семь стран. Среди них — Никарагуа и Гондурас.
В каждой из этих стран есть такие уголки, в которых жизнь течет по законам прошлого века.
Благотворительная медицинская организация Health & Help основала в этих отдаленных регионах свои клиники, чтобы у местных жителей была более-менее доступная врачебная помощь.
Евфросиния Капустина, социальный журналист по образованию, поэт и фотограф по зову души, побывала в этих медицинских представительствах и написала по результатам своей поездки замечательную книгу-автофикшн.
"Люди которых нет на карте" — это обитатели крошечных поселений.
Их домишки из самых простых материалов.
Их рацион беден до грани голода.
Их образование практически отсутствует. А душа у них бескрайняя как космос.
Эти люди по другому ощущают расстояния — пройти 10-15 км в одну сторону это не сложно.
Они умеют слышать природу и верят, что ей больно от валяющегося мусора.
Они кремируют своих умерших т.к. верят, что в огне из человека делаются звёзды и улетают на небо. На них по ночам россыпью созвездий смотрят предки.
Люди понимают что-то такое самое важное:
"...потом не будет удобнее. Этого потом, быть может, вообще не окажется. А сейчас — есть. И в нём стоит успевать жить."
И стараются не унывать в самых трудных жизненных условиях, потому что "если загрустить — можно привыкнуть и плохо прожить всю жизнь."
Евфросиния Капустина с помощью своего лёгкого текста погружает нас в путешествие по местам, до которых просто так не добраться путешественнику. Ведь "непросто заглядывать в страшные уголки планеты."
Она знакомит нас с непростыми судьбами людей, чья ежедневная жизнь — сплошная борьба за выживание.
Это произведение расширяет наши горизонты и знания о мире. Ведь его нужно знать разным, а не только "выспавшимся и нарядным".
Книга позволяет взглянуть на нашу собственную реальность под другим углом зрения. И это чудесное чтение!
Поделиться
AlisaGorislav
Оценил книгу
А ещё знаю, что больше трёх лет ждала того самого удачного времени и дождалась вот этого, сегодняшнего. И другого ждать не хочу.
Итак, наконец-то доползла до того, чтобы начать раздавать долги по рецензиям, которые уже давно обещала двум замечательным девушкам, вышедшим в шорт-лист премии “Лицей”. Произведение Ефросинии, "Люди, которых нет на карте", заняло почётное третье место и вышло в этом году в редакции Елены Шубиной, но полный текст мне в электронном виде достался от Ефросинии лично, за что ей — огромная личная благодарность.
Уже до меня много сказано, но я повторю для тех, кто не знает контекста. "Люди, которых нет на карте" — это, в сущности, путевые заметки или даже подписи к фотографиям в блоге. Более того, перед нами классический пример автофикшена: Ефросиния в самом деле была волонтёром в проекте Health & Help (справка для тех, кто не шарит: бесплатная медицинская помощь местному неимущему населению), действительно посетила Гватемалу и Никарагуа, взаправду является фотографом.
Что я могу сказать в общем, не вдаваясь в подробности? Как минимум то, что "Люди, которых нет на карте" были любопытным опытом; и хотя не могу назвать себя фанаткой автофикшена (наоборот, зачастую остаюсь не то чтобы в восторге), я никогда не была в Южной Америке и с интересом прочитала про чужой опыт, пусть и написанный в по-сухому документалистично. И вполне искренне считаю, что это произведение стоит того, чтобы с ним ознакомиться.
Но, в отличие от обычного автофикшена, в "Людях, которых нет на карте", не то чтобы сильно выражена личность фокального персонажа, пусть даже проглядываются некоторые моменты, в которых можно разглядеть человека: в сцене прощания с родными в самом начале повести, в воспоминаниях о жизни в общежитии, в мысленном цитировании стихотворений Пастернака, в принятии антидепрессантов — всё это позволяет сделать некоторые выводы о том, какая она — наша рассказчица, но себя на первое место она не ставит и себя почти не показывает — фактически до самого конца, пока не появляются уже совсем дневниковые вставки.
Плохо это или хорошо, я не возьмусь судить однозначно: с одной стороны, книги читают в том числе для того, чтобы погрузиться в чужой опыт и вместе с героев вырасти; с другой стороны, зато по каждой странице щедро не размазаны собственные травмы, какие обыкновенно не глубже летней лужицы посреди зноя, да и не про это повесть.
А ещё я всегда нахожу приятным, когда вижу в тексте, даже посвящённым столь экзотической стране и впечатлениям человека, с которым у меня фактически нет ничего общего, что-то знакомое:
На границе с Никарагуа допрашивали русских и мексиканцев. В нашей маршрутке я была единственной русской. В соседней — единственный мексиканец. Водители, услышав наши национальности, в ужасе схватились за головы. Нас двоих ненавидели все наши попутчики, измотанные тяжёлой дорогой, гневно перешёптывались между собой на английском, обсуждали наши страны.
Как та, которая выезжала из Швеции в апреле 2022 года, подтверждаю: сомнительное удовольствие. Правда, было ровно наоборот: люди с не российским гражданством вызывали тревогу у всех остальных.
Однако были и моменты, которые меня удивили. В плохом смысле, увы.
Во-первых, мне не вполне понятно, почему эта повесть написана в постоянном скакании времён, а не выдержана только в настоящем или только в прошедшем. Возможно, в этом есть некий художественный замысел, которого я не выкупаю, но мне хотелось бы посмотреть в глаза корректору и спросить, как так получилось, что про согласование времён никто не подумал.
Во-вторых, моей отдельной болью в книгах всегда был финансово-экономический вопрос и называние конкретных цен в целом. Проблема не в том, что стоит чему-то измениться, и 100 грамм определённого сыра стоит уже на N, а O рублей, поэтому книга может стремительно состариться в мелочах, а скорее в том, что пропадает контекст, который в данном случае необходим.
Что самое тоскливое, есть не только примеры того, как совершенно не понятно, сколько это по существу:
Получает зарплату в тысячу двести кетцалей каждый месяц (это примерно тринадцать тысяч рублей по текущему курсу).
Слышала ответы — от двенадцати до семнадцати кетцалей на всю семью (это примерно 120-170 рублей).
Чтобы проехать это расстояние, нужно заплатить 500 кордоб (это примерно 1300 рублей) дону Чеме — владельцу одной из двух на всю нашу деревню машин.
Но и примеры того, как контекст цены становится предельно ясен:
Качественный кофе в Гватемале стоит почти так же, как чёрная икра в России
Зачем мне перевод по некоторому неизвестному курсу в рубли, я точно не знаю. Сейчас (на момент 31 декабря 13:40, когда я писала этот абзац) 1-3 кетцаля — это уже от 14 до 42 рублей. Разница не то чтобы принципиальная, но уже возникает преждевременное состаривание текста, хотя, опять-таки, нет ничего плохого в том, чтобы фиксировать момент. Но вот если бы было приведено, что именно могут позволить себе местные жители на эту сумму, стало бы кратно нагляднее — и красочнее, как по мне. И порадовало бы безумных фанатов списков вроде меня, а ещё более чем уложилось бы в формат блога, как по мне.
В-третьих, это тот самый пример, когда книгу действительно украсили бы иллюстрации, пусть даже отношение к ним у меня неоднозначное. С учётом, что главная героиня — фотограф, а все события — реальны, было бы предельно любопытно посмотреть на снимки, которые были сделаны на самом деле. Либо бы не помешал некоторый описательный момент, который по большей степени, к моему огромному сожалению, отсутствует, хотя можно отыскать несколько неплохих метафор, например:
Закат алыми и лимонными лампочками гас в белёсых цветах цитрусовых деревьев.
Сидели, смотрели на отползающий от берега сливовый океан — к ночи.
Не помешали бы не только пейзажи, но и портреты. Про пациентов гватемальской клиники мы узнаём, что они нищие, что они плохо образованные; что девушки рано выходят замуж, что мужья оставляют свои семьи, стремясь в США; что верят в бога кукурузы — кстати, весьма понравился этот момент:
Я спрашивала местных жителей про их веру. Они, в большинстве своём, верят богу кукурузы. И ещё в то, что в нашей клинике им всегда помогут, когда бы они не пришли.
Но, к сожалению, я не вижу, как всё это выглядит. Я лично никогда не жила в горной деревне в Гватемале и никогда не видела, какие там могут быть больницы, открытые в рамках программы Health & Help: книга визуала не даёт текстом, а дополнительных иллюстраций нет. Я понимаю, что в таком случае стоимость печати ощутимо возросла бы, но, возможно, стоило добавить живописание пейзажей и портретов словами.
Можно возразить, что смысл был в том, чтобы передать ужас положения местных лаконично и без метафор, ограничившись чисто журналистским текстом, но мне не становится легче от того, что художественности нет. Можно возразить, что это своего рода документальный репортаж, но ведь тоже нет — произведение открыто позиционируется (тут я коварно использую метатекстуальные знания) как повесть, а не репортаж.
В одной из критических рецензий, кстати, я прочитала, что повести-де не хватило глубинной психологичности — и готова согласиться с данным тейком, но только наполовину. Повесть и правда будто ломается на две части — на Гватемалу и на Никарагуа, и по настроению и по глубине эти две "страны" отличаются. И "гватемальская" часть действительно несопоставимо более сухая.
В-четвёртых, я хотела бы написать про то, что не хватило какого-то этнического, что ли, контекста, особенно пока читала первую часть, посвящённую Гватемале, но потом, добравшись до Никарагуа, поймала себя на мысли, что как будто эти две половинки были написаны в разной время. Или же "Никарагуа" прошла редактуру, или по времени писалось дольше, или впечатления были свежее, или ещё что-нибудь — точно не знаю, но людей и живости там стало... ощутимо, значительно больше. Описания обстановки, к слову, появляются тоже именно во второй части:
В этой рыбацкой деревне на берегу Тихого океана нет ни одного устойчивого дома. Ветки деревьев воткнуты в землю, и между ними натянуты плёнки или же простыни. Внутри домов побогаче можно найти стол и пластиковые стулья разных размеров. Внутри самых бедных домов — только гамаки и несколько тряпок для сидения. Под этими хлопающими на ветру полотнами зачинаются, рождаются, живут и умирают люди, сбежавшие от чего-то очень страшного.
Но готовый текст уже не исправить, да и, как обычно напоминаю, автору всегда виднее, как писать. Моё дело нехитрое — высказать мнение разной степени токсичности и побежать читать всякое разное дальше, надеясь, что в дальнейшем автор порадует меня более совершенным текстом и, возможно, вынесет для себя нечто полезное из моих скромных замечаний.
Мама говорит, что дрова важнее, всё равно здесь у нас нет книг, чтобы их читать.
Поделиться
Автор книги
Подборки с этой книгой
О проекте
О подписке